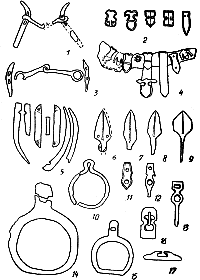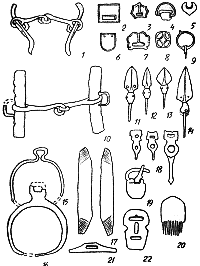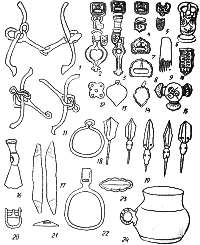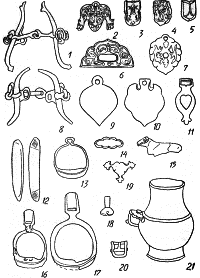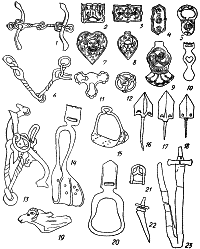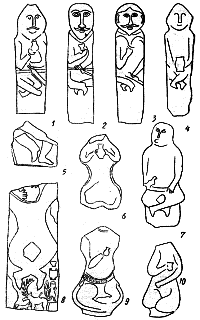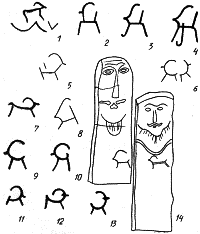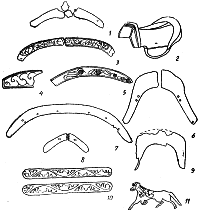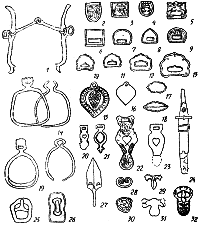Д.Г. Савинов
Д.Г. Савинов
Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху
// Л., изд-во ЛГУ. 1984. 174 с.
Введение — 3-7Глава I. Сложение прототюркского субстрата
1. Конец I тыс. до н.э. — 8-22
— Юечжи
— Динлины
— Гяньгуни
— Цюйше
— Хунны в Южной Сибири
2. Первая половина I тыс. н.э. — 22-30
— Кокэльская культура
— Таштыкская культура
— Верхнеобская культура
— Памятники берельского типа
Глава II. Раннетюркское время
1. Древнетюркские генеалогические предания
и археологические памятники раннетюркского времени — 31-40
— Династия Ашина
— Погребальный обряд тюрков-тугю
— Комплекс из Хачы-Хову
— Кудыргинский валун
— Могильник Кудыргэ
— Улуг-Хорум
2. Владение Цигу — таштыкская культура — 40-47
— Таштыкская культура и енисейские кыргызы
— Тепсейские пластины
— Таштыкские стелы
Глава III. Тюркское время
1. Тугю и теле. Курайская культура — 48-76
— Первый тюркский каганат.
— Вопросы этнографии тугю и теле.
— Периодизация древнетюркских погребений с конём.
— Погребения с конём VI-VII вв.
— Этническая принадлежность погребений с конём.
— Древнетюркские каменные изваяния VI-VII вв.
— Второй тюркский каганат.
— Погребения с конём VII-VIII вв. Катандинский этап.
— Погребения с конём VIII-IX вв. Курайская культура.
— Древнетюркские оградки.
— Каменные изваяния VII-IX вв.
— Тамгообразные изображения горных козлов.
— Племена Северного Алтая в тюркское время.
2. Культура енисейских кыргызов — 77-83
— Кыргызы до начала уйгурских войн.
— Вопросы этнографии енисейских кыргызов.
— Памятники типа «чаа-тас» VI — середины IX вв.
— Копёнский чаа-тас.
3. Уйгуры — 84-88
— Уйгуры и енисейские кыргызы
— Археологические памятники уйгуров
Глава IV. Позднетюркское время
1. «Кыргызское великодержавие» — 89-103
— Тувинский вариант
— Алтайский вариант
— Восточноказахстанский вариант
— Минусинский вариант
— Красноярско-канский вариант
— Вопрос о переселении енисейских кыргызов на Тянь-Шань
— Вопрос о длительности пребывания кыргызов в Центральной Азии
2. Кимако-кыпчакское объединение. Сросткинская культура — 103-118
— Уйгуры на Иртыше.
— Страна кимаков.
— Археологические памятники кимаков (йемеков) на Иртыше.
— Сросткинская культура.
- Североалтайский вариант.
- Западноалтайский вариант.
- Кемеровский вариант.
- Новосибирский вариант.
— Вопрос об этнической принадлежности сросткинской культуры.
— Кимаки и сросткинская культура.
3. Алтае-телеские тюрки в IX-X вв. — 119-123
Глава V. Некоторые вопросы изучения памятников древнетюркской эпохи
1. Древнетюркский предметный комплекс — 124-138
— Серебряные сосуды.
— Поясной набор.
— Лук и стрелы.
— Сёдла.
— Стремена.
— Удила и псалии.
— Уздечные наборы.
— Пряжки.
2. Этнокультурные связи — 138-141
3. Процессы тюркизации — 142-145
— Западная Сибирь
— Восточная Сибирь
Заключение — 146-148
Литература. Список сокращений — 149-160
Иллюстрации — 161-172
Приложение — 173-174
Введение (с. 3-7)
В прошлом каждого народа или группы народов, живущих в пределах одной историко-этнографической области, т.е. связанных территорией расселения, постоянными культурными контактами, языком и общей исторической судьбой существует эпоха максимального напряжения творческих сил, когда закладываются основы определенной культурной модели, развивающейся затем на протяжении всех последующих поколений. Такой эпохой в истории народов Южной Сибири, предков современных алтайцев, тувинцев, хакасов, шорцев, а также тесно связанных с ними в этногенетическом отношении тюркоязычных якутов на Лене, киргизов и казахов в Средней Азии, явилась древнетюркская эпоха, охватывающая более пяти столетий формирования древнетюркского историко-культурного комплекса.
В I тыс. н.э. на территории Центральной Азии и Южной Сибири появились, достигли расцвета и погибли ряд крупных раннеклассовых государственных объединений — Древнетюркские и Уйгурский каганаты, государства кыргызов на Среднем Енисее и кимако-кыпчаков на Иртыше. В создании этих государств принимали участие и южносибирские племена. Названия многих из них (этнонимы) сохранились в письменных источниках — китайских, тибетских, арабо-персидских, памятниках древнетюркской рунической письменности. Этим же племенам принадлежали и разнообразные археологические памятники — погребальные сооружения (курганы), поминальные комплексы (оградки, стелы, каменные изваяния), наскальные изображения (петроглифы), известные в настоящее время в большом количестве во всех районах Южной Сибири.
Идентификация этих двух видов источников — письменных и археологических, попытка выявить этнокультурную историю народов Южной Сибири в I тыс. н.э. на фоне созданных ими государственных объединений являются задачей настоящей работы. Задача эта достаточно конкретная и узкая — она касается главным образом изучения остатков материальной куль-(3/4)туры, представленной в археологических комплексах. Вне сферы нашего внимания остались вопросы духовной культуры, идеологии, в значительной степени социальной организации и древнетюркской рунической письменности, изучение которой представляет собой специальную область знания — тюркологию.
Поставленной задачей в решающей степени обусловлен характер использованных в работе источников — это археологические материалы, соотнесенные со сведениями письменной истории. Особое внимание было уделено вопросам хронологии археологических памятников, так как от истинной датировки комплекса зависят оценка реального вклада оставившего его Населения в общий поток культуры, возможность определения этнической принадлежности данного населения, восстановление культурных связей и т. д.
С методической точки зрения опорными явились три теоретических положения, высказанные известными советскими исследователями. 1. О соотношении политической и этнической истории. В письменных источниках содержатся многочисленные сведения о событиях политической истории государств Центральной Азии и Южной Сибири I тыс. н.э. «Но этническая история, — писал С.М. Абрамзон, — это совокупность явлений социальных, экономических и других, а также процессов, затрагивающих культурные, бытовые и этнические традиции. Она не может быть сведена главным образом к миграциям, вызванным политическими событиями и военными столкновениями» (Абрамзон, 1971, с. 17), хотя они в значительной мере определяют направление этнокультурного развития народов, попавших в сферу влияния того или иного государственного образования. 2. О культурно-дифференцирующих признаках. На территории Южной Сибири, как и в других регионах Великого пояса степей Евразии, в условиях преобладающего скотоводческого хозяйства, связанного с высокой степенью природной адаптации и мобильностью населения, происходит определенная нивелировка всех культурных элементов, что в свое время вызвало представление об унифицированном характере развития культуры скотоводческих обществ, независимо от времени и места их существования. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере изучения средневекового искусства Азии, где «осторожность и широта подхода, — отмечал Б.И. Маршак, — казалось бы, позволяют избежать крайностей, но возникает новая опасность: в безбрежном сходстве стали незаметны различия» (Маршак, 1971, с. 6). Именно эти различия, или признаки, которые могут быть названы культурно-дифференцирующими, должны стать в настоящее время основным объектом исследования. 3. О выделении средневековых археологических культур. Комплекс культурно-дифференцирующих признаков является основанием для выделения на территории Южной (4/5) Сибири в I тыс. н.э. нескольких археологических культур, так как, согласно И.С. Каменецкому, «области, соответствующие археологической культуре, выделяются не, только в границах ранних государств (Боспорское царство, Хазарский каганат и т.п.), но и в более поздних развитых образованиях» (Каменецкий, 1970, с. 19). Последовательность взаимодействия этих культур и этнокультурные связи оставившего их населения, в свою очередь, позволяют проследить основные закономерности развития раннеклассовых объединений Центральной Азии и Южной Сибири в условиях полиэтнических по своей структуре обществ.
Основополагающим вопросом изучения этнокультурной истории народов Южной Сибири в I тыс. н.э. является вопрос о характере данной эпохи и её периодизации. По этому поводу в литературе высказано несколько точек зрения, основанных на различных критериях: пользуясь социально-экономическим критерием, её определяют как «эпоху поздних кочевников», сменившую «эпоху ранних кочевников» (Черников, 1960); хронологическим — как «эпоху средневековых кочевников», затем нового времени н т. д. по аналогии с европейской периодизацией (Хазанов, 1973); этнокультурным — как «древнетюркское время», или «эпоху» (Грач, 1966); этнополитическим — «эпоху раннесредневековых государств» (Кызласов, 1979, с. 121-199). Соответственно археологические материалы распределяются по векам, типам памятников (Гаврилова, 1965), этапам развития древнетюркской культуры (Вайнштейн, 1966), эпохам (Худяков, 1982) или периодам существования государственных объединений (Кызласов, 1969, 1979). Приведённые определения хотя и базируются на различных основаниях вместе с тем не противоречат друг другу, так как освещают разные стороны развития общества и культуры народов Южной Сибири во второй половине I тыс. н.э. Так, в равной степени правомерно говорить и о культуре древнетюркского времени — в широком, историческом и этнокультурном значении термина, и о культуре времени Древнетюркских каганатов — в узком, этническом и политическом значении понятия (Трифонов, 1971, с. 113).
По нашему мнению, древнетюркская эпоха — многовековой период в истории народов алтайской языковой семьи, так или иначе связанных с тюркским этногенезом и культурогенезом, игравшими определяющую роль в развитии южносибирских обществ в области экономики (преобладание полукочевого скотоводства), материальной культуры (типы жилищ, одежды, украшений, предметов убранства верхового коня и вооружения), социальных отношений (формы стратификации общества, выделение элитарно-правящих династий), а также духовной культуры, мифологии, изобразительной деятельности и т. д. Доминирующую роль в этом процессе играла культура ведущих тюркоязычных этносов, распространяемая как «госу-(5/6)дарственная» культура в среде окраинных обществ-реципиентов.
Опираясь на исторически зафиксированные даты существования наиболее крупных государственных объединений, созданных тюркоязычными правящими династиями, в древнетюркской эпохе можно выделить ряд периодов: Первый тюркский каганат — 552-630 гг.; Второй тюркский каганат — 679-742 гг.; Уйгурский каганат — 745-840 гг.; Каганат енисейских кыргызов — 840 г. — конец X в. н.э. Кроме того, учитывая само содержание исторического процесса того или иного периода (или периодов), закономерно определяющее этнокультурное развитие населения этих государственных объединений, возможно следующее деление: раннетюркское время — V — середина VI вв. н.э.; тюркское время — середина VI — середина IX в. н.э. позднетюркское время — середина IX — конец X в. н.э. Раннетюркское время следует за позднехуннским (или предтюркским) временем, когда происходило сложение прототюркского этнокультурного субстрата — от переселения тюрков на Алтай (460 г.) н до образования Первого тюркского каганата. Тюркское время охватывает периоды существования Древнетюркских и Уйгурского каганатов. Позднетюркское время синхронно широкому расселению енисейских кыргызов после 840 г. н.э. и до конца X в. н.э. За позднетюркским следует предмонгольское время (XI-XII вв. н.э.) и т. д.
Понятие «времени» в его этнокультурном аспекте проявляется в материалах конкретных археологических памятников н культур, которые известны на территории Южной Сибири. Иногда они могут быть сопоставлены с данными письменных источников, идентифицированы с содержащимися в них этнонимами и приобрести определенное историческое и этнографическое содержание. Достоверность подобного рода реконструкций зависит от степени синхронизации локализованных по данным письменных источников этнонимов с археологическими памятниками на той же территории. Однако полное совпадение границ распространения археологических культур н расселения в этих пределах каких-то этнических общностей вряд ли возможно. Скорее можно говорить об ареальных соответствиях исследуемых культур, точная этническая атрибуция которых всегда будет требовать достаточно веских доказательств.
На территории Южной Сибири в древнетюркскую эпоху может быть выделено три археологических культуры, обладающих всеми необходимыми для этого признаками: культура енисейских кыргызов, культура алтае-телеских тюрков (курайская) и культура кимако-кыпчакских племен (сросткинская). Каждая из них прошла длительный путь развития и подразделяется на хронологические этапы, часто соответствующие периодам существования государственных объединений. Сходство предметов сопроводительного инвентаря на одном этапе (в (6/7) один период), но в разных археологических культурах фиксирует определённое состояние древнетюркского историко-культурного комплекса, а типологические различия между ними на разных этапах показывают динамику его развития.
Приведёнными теоретическими положениями обусловлена структура настоящей работы. Фактический материал распределен в ней по «временам», соотнесённым с историческими «периодами», но рассматривается не отвлечённо, а в пределах выделенных археологических культур, имеющих определённое этническое содержание, что дало возможность связать вместе такие исторические категории, как археологический памятник — свидетельства письменных источников (этнос).
Особое внимание обращено на сложение прототюркского субстрата (глава I) и раннетюркское время (глава II). Это объясняется тем, что данные разделы менее других освещены в специальной литературе. Важнейшей проблемой здесь является вопрос о преемственности между хуннской и древнетюркской культурной традицией. Еще в 1966 г. Л.П. Потапов писал, что «уже накапливаются данные, позволяющие поставить вопрос о преемственной этногенетической связи культуры кочевников древнетюркского времени Тувы с культурой кочевников гуннского времени» (Потапов, 1966, с. 11). Сейчас на этот вопрос с полной мерой ответственности можно ответить положительно. Образование древнетюркских государственных объединений на определенной стадии социально-экономического развития скотоводческих обществ Центральной Азии и Южной Сибири, так же, как и культуры создавшего их населения, явилось закономерным результатом сложных этносоциальных и этнокультурных процессов, действовавших на протяжении всего I тыс. н.э. Поэтому правомерна и несколько иная трактовка поставленной темы — этнокультурная история народов Южной Сибири в I тыс. н.э. Подобный взгляд на соседние с Южной Сибирью регионы, населённые тунгусо-маньчжурскими (Деревянко, 1981) и монголоязычными (Викторова, 1980) народами, уже получил признание в советской исторической науке. Первым подходом к решению этой проблемы на южносибирском материале н является настоящая работа.
Глава I. Сложение прототюркского субстрата
1. Конец I тыс. до н.э. (с. 8-22)
^ [ Введение. ] Ряд этнонимов, известных в той или иной транскрипции для территории Южной Сибири в древнетюркскую эпоху, впервые упоминается в письменных источниках в связи с историей первого раннеклассового объединения Центральной Азии — государства Хунну.[ Введение. ]
Юечжи.
Динлины.
Гяньгуни.
Цюйше.
Хунны в Южной Сибири.
Первоначально центр этого государства находился в Ордосе, откуда происходят знаменитые ордосские бронзы и где были найдены самые ранние погребения, предположительно считающиеся хуннскими. В письменных источниках, наиболее полно переведённых В.С. Таскиным, содержатся отдельные упоминания о движении хуннов в ордосский период их истории в сторону севера Центральной Азии и Южной Сибири. Так, ещё в конце III в. до н.э. шаньюй Тоумань, первое достоверное лицо хуннской истории, «оказавшись не в силах победить (царство) Цинь, переселился на север» (Таскин, 1968, с. 37), где хунны пробыли «более десяти лет» (с 221 по 209 г. до н.э.), после чего в связи с изменением политической обстановки вернулись обратно в Ордос. После этого Маодунь, сын Тоуманя, был отдан заложником к юечжам, чему должна была предшествовать победа юечжей над хуннами, которая могла иметь место во время пребывания Тоуманя «на севере». Придя к власти, Маодунь (или Модэ шаньюй), фактический основатель хуннского государства, «напал на западе на юечжи и прогнал их» (Таскин, 1968, с. 38). Однако хунно-юечжийские войны продолжались ещё длительное время и закончились в 165 г. до н.э., когда юечжи были окончательно разбиты сыном Модэ шаньюя шаньюем Лаошанем и переселились в Среднюю Азию, хотя какая-то часть их упоминается среди северных племён и в 134 г. до н.э. (Таскин, 1968, с. 76). Сразу же после победы над юечжами, в 201 г. до н.э. Маодунь предпринял военный поход, в результате которого «покорил на севере владения
(8/9)
хуньюев, цюйше, гэгуней, динлинов и синьли» (Таскин, 1968, с. 41). К 176 г. до н.э. объединение хуннских земель было завершено, и, пользуясь образным выражением источника, «все народы, натягивающие лук, оказались объединёнными в одну семью» (Таскин, 1968, с. 43).
Распространение хуннов на север привело к тому, что около 120 г. до н.э. центр хуннского государства был перенесён в Монголию, после чего «к югу от пустыни уже не было ставки их правителя» (Таскин, 1968, с. 55).
В монгольский период истории хуннов в источниках зафиксированы неоднократные выступления против них северных покорённых племен. Так, первое выступление динлинов отмечено в 72 г. до н.э. (Таскин, 1973, с. 28). В 61 г. до н.э. «в связи с тем, что в течение последних трёх лет динлины совершали набеги на сюнну (хуннов. — Д.С.), во время которых убили и захватили в плен несколько тысяч человек и угнали лошадей, сюнну отправили против них более 10 тыс. всадников, но ничего не добились» (Таскин, 1973, с. 30). В 49 г. до н.э. Чжичжи шаньюй опять «на севере принудил сдаться динлинов» (Таскин, 1973, с. 37), но и позже они выступают в качестве одного из главных противников государства Хунну. После разделения хуннов в середине I в. до н.э. на северных к южных динлины участвовали в войне против северных хуннов. Последний раз они упоминаются между 147 и 156 гг. н.э., когда предводитель сяньбийцев Таньшихай «овладел всеми землями, бывшими под державою хуннов» (Бичурин, 1950. с. 154; Кюнер, 1961, с. 144). Впоследствии, по сведениям письменных источников, потомки динлинов вошли в страну Хягас (енисейских кыргызов), жители которой «перемешались с динлинами» (Бичурин, 1950, с. 350-351; Кюнер, 1961, с. 4).
Гяньгуни, завоёванные Модэ в 201 г. до н.э., были снова покорены Чжичжи шаньюем и, следовательно, так же как и динлины, ещё раньше отделились от государства Хунну. При этом сообщается, что их «земли находились на расстоянии 7 тыс. ли западнее ставки шаньюя (на р. Толе в Монголии. — Д.С.) и на расстоянии 5 тыс. ли севернее владения Чэши (Турфанский оазис в Восточном Туркестане. — Д.С.). В них Чжичжи и остался жить» (Таскин, 1973, с. 37).
Как далеко продвинулись хунны на север, сохранились ли их памятники на территории Южной Сибири, какие конкретно племена скрываются за экзоэтнонимами динлин, гяньгунь, цюйше, юечжи (другие, к сожалению, пока не идентифицируются), в каких районах они были расселены, с какими археологическими культурами (или памятниками) могут быть связаны — вот вопросы, которые давно волнуют исследователей Центральной Азии, историков, археологов, востоковедов.
^ Юечжи. С.И. Руденко предложил отождествление юечжей с племенами пазырыкской культуры Горного Алтая (Руденко,
1953). В свою очередь юечжи многими исследователями связываются с массагетами Средней Азии (Толстов, 1948, с. 241-247; Киселёв, 1961, с. 314-317; Бернштам, 1951, с. 83), продвинувшимися во время греко-персидских войн далеко на восток вплоть до провинции Ганьсу и покорившими хуннов на территории Ордоса. Это отождествление хорошо объясняет многочисленные среднеазиатские параллели в находках пазырыкских курганов. «Восточная экспансия массагетских (юечжийских) племён, с которыми были тесно связаны и азиатские скифы — саки, — писал С.В. Киселёв, — не могла не способствовать широкому распространению особенностей их культуры и искусства на восток. Одним из первых отражений распространения на восток сако-массагетской культуры, близкой к культуре ахеменидского Ирана, являются своеобразные черты знаменитых Пазырыкских курганов на Алтае» (Киселёв, 1951, с. 316).
Отождествление юечжей с племенами пазырыкской культуры в целом может быть принято при условии широкого понимания границ распространения культур пазырыкского типа. На это ещё раньше обратил внимание А.Д. Грач, который писал, что «ареал курганов пазырыкского типа включает не только территорию Алтая, но и обширные территории Центральной Азии и Восточного Казахстана. На всех этих территориях представлены памятники пазырыкского типа, оставленные племенами, которые, по-видимому, составляли весьма могущественный союз» (Грач, 1967, с. 225). К аналогичному выводу пришёл и В.В. Волков, наметивший два больших этнокультурных ареала на севере Центральной Азии: 1) восточный, преимущественно монголоидный, включающий Забайкалье, Прибайкалье, восточную и центральную Монголию и доходящий до границ северного Тибета — культура плиточных могил; 2) западный, преимущественно европеоидный, охватывающий Западную Монголию до Гоби, Туву и Алтай — курганы с каменной наброской, по терминологии В.В. Волкова «саяноалтайского типа» (Волков, 1974, с. 69-72). С восточным ареалом связано дальнейшее формирование монголоязычных племён (Викторова, 1980), а с западным — тюркоязычных.
Пребывание юечжей на территории Монголии подтверждают и тамги, обнаруженные на скалах Цаган-Гола (Гобиалтайский аймак МНР), по своим начертаниям сопоставимые с изображениями на хорезмийских монетах и сарматскими тамгами. «Существование ираноязычных племен юечжей на западе Монголии во II-I вв. до н.э., — считает Э.А. Новгородова, — кажется ныне вполне вероятным. О том же свидетельствуют и многочисленные тамги — знаки собственности, происходящие из Монгольского Алтая и распространившиеся в кушанское время (т.е. после разгрома юечжей шаньюем Лаошанем. — Д.С.) далеко на запад» (Новгородова, 1980, с. 123).
(10/11)
Завоевание хуннами юечжей совпадает с началом позднего (шибинского по периодизации М.П. Грязнова) этапа пазырыкской культуры Горного Алтая — II в. до н.э. Для погребений шибинского этапа при сохранении прежних конструктивных особенностей погребальных сооружений и «скифской триады» в комплексе предметов сопроводительного инвентаря — оружие, узда, звериный стиль (Баркова, 1978, 1979), характерны некоторые инновации — замена бронзовых орудий железными, появление новых типов вещей (в том числе — пластинчатых и кольчатых ножей), богатый набор костяных и роговых изделий, которые могут быть связаны с влиянием хунну.
Наиболее отчётливо это показали раскопки могильников Уландрык и Узунтал III в Юго-Восточном Алтае, давшие массовый материал из рядовых погребений конца I тыс. до н.э. (Кубарев, 1972; Савинов, 1978). Для некоторых из уландрыкских курганов были получены радиоуглеродные даты, одна из которых (2190±10 лет) позволяет относить его ко времени не ранее рубежа III-II вв. до н.э. (Кубарев, 1976, с. 254). Очевидно, население, оставившее могильники типа Узунтал III и Уландрык, обладало культурой пазырыкского типа, но уже в период её завершения, на грани эпохи Великого переселения народов. Можно предполагать поэтому, что часть пазырыкцев-юечжей, разбитых хуннами в середине II в. до н.э., продолжала жить на территории Горного Алтая вплоть до рубежа н.э.
В памятниках пазырыкской культуры Горного Алтая впервые появляется ряд элементов древнетюркского культурного комплекса. Это — сопроводительные захоронения коней, расположенные в могильной яме на приступке с северной стороны, и вертикально вкопанные камни с восточной стороны некоторых больших (Руденко, 1953, с. 342) и малых (Савинов, 1978, с. 49-50) пазырыкских курганов — прообразы будущих камней-балбалов. Ещё раньше вертикально вкопанные камни встречаются в культуре плиточных могил Забайкалья, в связи с чем Ю.С. Гришин писал, что «уже в этот период (эпоха поздней бронзы. — Д.С.) начинает распространяться обычай подчеркивания военных заслуг отдельных личностей, выражающийся, например, так же как в VII-IX вв. н.э. у тюрков Южной Сибири к Монголии, в постановке у могильных памятников цепочек камней» (Гришин, 1975, с. 102). Из предметов сопроводительного инвентаря могут быть отмечены костяные обкладки низких передних лук седел (табл. X, 10), эсовидная форма псалий, однокольчатые удила (табл. I, 1), блоки от чумбуров (табл. I, 3), продолжающие бытовать у населения Саяно-Алтая и в I тыс. н.э.
^ Динлины. Вопрос о динлинах, представителях древней европеоидной расы в Центральной Азии, был поставлен в знаменитом труде Г.Е. Грумм-Гржимайло, собравшем все известные к тому времени сведения о них, содержащиеся в письменных
(11/12)
источниках (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 1-78). В дальнейшем развитие археологии и палеоантропологии позволило исследователям высказать ряд гипотез по поводу отождествления с динлинами известных южносибирских археологических культур — афанасьевской (Гумилёв, 1959, с. 19); карасукской или тагарской (Киселёв, 1951, с. 180-183, 560); тагарской (Теплоухов, 1929, с. 46; Кызласов, 1960, с. 161-166 и др.); таштыкской (Членова, 1967, с. 221); монгун-тайгинской (Алексеев, 1974, с. 390). Наибольшее распространение получила точка зрения о тагарской принадлежности динлинов, место расселения которых определялось соответственно территорией Минусинской котловины.
Поскольку в письменных источниках динлины упоминаются с конца III в. до н.э., все отождествления с ними более ранних южносибирских культур с точки зрения хронологии не обоснованы. Н. Л. Членова высказала сомнение н в тагарской принадлежности динлинов, учитывая отдаленность минусинских степей от восточных центров письменной традиции и несоответствие хозяйственного облика тагарцев, преимущественно земледельцев, с некоторыми особенностями динлинов, отмеченными в письменных источниках (Членова, 1967, с. 220-222). С одной стороны, динлины характеризуются как скотоводческий народ с многочисленными стадами овец и крупного рогатого скота; с другой — как люди, у которых «от колен кверху тело человеческое, а книзу растет лошадиная шерсть и лошадиные копыта; они не ездят верхом, а бегают со скоростью лошади» (Позднеев, 1899, с. 10). За этим фантастическим образом, очевидно, скрывается реальная фигура пешего охотника на лыжах, подбитых лошадиными камусами, обитателя горнотаежных районов.
Несмотря на фрагментарность этих сведений, они позволяют предполагать, что динлины обитали в районах с разными физико-географическими условиями. Широкое расселение динлинских племен — севернее Гоби от Байкала до Иртыша — уже отмечалось исследователями (Бичурин, 1950, с. 50; Бернштам, 1951; с. 239; Сердобов, 1971, с. 26, и др.). Л. Н. Гумилев, подводя в 1959 г. итоги изучению динлинской проблемы, пришёл к выводу, что, «вероятно, слово „динлин" было полисемантичным и имело нарицательное значение вместе с этнонимическим» (Гумилев, 1959, с. 19), обозначая население северной периферии хуннских владений. Какая именно группа динлинов была завоевана Модэ в 201 г. до н.э., сказать трудно. В очередности покоренных им племен динлины названы третьими после хуньюев и цюйше. В танских хрониках в составе этнической общности теле также названо племя хунь (вероятно, тот же этноним — хуньюй), которое «кочевало южнее всех (телеских. — Д.С.) поколений» (Бичурин, 1950, с. 345). По данным Н.В. Кюнера, племя хунь в VIl в. н.э. обитало в районе Цен-
(12/13)
тральной Монголии (Кюнер, 1961, с. 9). Следовательно, завоеванные Модэ динлины могли жить по соседству с ними в Северной Монголии, но как далеко на север простирались их владения — неизвестно. В состав динлинов могли входить и племена тагарской культуры, но территория расселения динлинов не ограничивалась Минусинской котловиной.
По мнению многих исследователей, этноним динлин через переходные формы чиди и дили связывается с теле, также собирательным наименованием общности, сыгравшей большую, а в ряде случаев, решающую роль в истории древнетюркских этносоциальных объединений. «Наиболее видные современные ориенталисты, — отмечает Л.П. Потапов, — склонны сводить его (название теле. — Д.С.) через более ранние формы написания (например, Ch'in-le) к названию Ting-ling (динлины), носителями которого (по крайней мере в I в. н.э.) были и тюркоязычные племена» (Потапов, 1969, с. 148). Если динлины — это теле, то с их средой должно быть связано дальнейшее формирование ряда крупных народов древнетюркской эпохи — уйгуров, сеяньто, курыкан, дубо, байегу и др., хотя доказать это, по данным археологии, не представляется возможным. Широкое расселение динлинов предполагает их совместное проживание с юечжами, но каковы были взаимоотношения между двумя этими народами также неизвестно.
^ Гяньгуни. Наиболее определенно прослеживается генетическая связь с населением древнетюркской эпохи этнического наименования гэгунь (гяньгунь). В настоящее время установлено, чти названия гэгунь, гяньгунь, кигу, цигу, гегу, хэгусы, хягасы представляют собой разновременные фонетические варианты одного этнонима — кыргыз (Яхонтов, 1970), обозначавшего в I тыс. н.э. народ, живший на Среднем Енисее, в Минусинской котловине, и по этому признаку условно названный енисейскими кыргызами (в отличие от более поздних киргизов на Тянь-Шане). Однако если связь всех этих названий со средневековыми кыргызами не вызывает сомнения, то в вопросах их локализации и возможности соотнесения с какой-либо археологической культурой хуннского времени остается много неясного.
Рассматривая свидетельства письменных источников о северном походе Модэ, В.В. Бартольд отмечал, что «рассказ о событии 201 г. до н.э. ничего не говорит ни об области киргизов, ни о ее местоположении» (Бартольд, 1963, с. 476). Географические координаты, приведенные относительно нахождения ставки Чжичжи шаньюя, позволили В.В. Бартольду предположить, что «киргизы тогда жили не только на Енисее, но и южнее, в той местности, где теперь озеро Кыргыз-нор» (Бартольд, 1963, с. 477), т. е. в Северо-Западной Монголии. В дальнейшем мысль о первоначальном проживании гяньгуней (кыргызов) именно в Северо-Западной Монголии укрепилась в литературе. На ней в значительной степени основана высказан-
(13/14)
ная С.В. Киселёвым (Киселёв, 1951, с. 560—561) и развернутая Л.Р. Кызласовым гипотеза о двухэтапном проникновении (при Модэ и Чжичжи) тюркоязычных гяньгуней на север, в Минусинскую котловину, где произошло смешение их с местными тагарскими (динлинскими?) племенами, что и положило начало сложению кыргызского этноса (Кызласов 1960 с 161-166).
Помимо географических данных обоснованием этой гипотезы послужили и данные археологии: погребения по обряду трупосожжения, характерному впоследствии для таштыкской культуры и культуры енисейских кыргызов, раскопанные Г.И. Боровкой на р. Толе в Монголии, а также центральноазиатские элементы раннеташтыкских склепов в Минусинской котловине: усеченно-пирамидальная форма насыпи с боковым входом — дромосом, погребальные статуэтки животных, церемониальные зонты и т. д., имеющие аналогии в памятниках ханьской династии (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) и погребениям хуннских шаньюев в Ноин-Уле (рубеж н.э.).
Следует отметить, что еще В. В. Бартольд проявлял известную осторожность в привлечении названия оз. Кыргыз-нор в Северо-Западной Монголии в качестве свидетельства пребывания здесь древних гяньгуней. «Насколько мне известно, — писал он, — нет сведений о том, когда и почему озеро получило такое название» (Бартольд, 1963, с. 477). В этой связи вряд ли можно согласиться с исследовавшим этот вопрос Г. Нуровым в том, что попытка связать название озера, как и термин херексур (кыргызские могилы), «с очень кратковременным (вторая половина IX и начало X в.) и далеко не прочным господством здесь енисейских кыргызов не может считаться убедительной» (Нуров, 1955, с. 69). Широкое расселение енисейских. кыргызов в середине IX в., как это будет показано ниже, явилось важнейшим этапом этнической истории всех народов севера Центральной Азии, а память о нем, закрепленная в топонимах, гидронимах и названиях древних курганов, не менее реальна, чем воспоминания двухтысячелетней давности, когда народа, с которым они связываются, фактически еще не существовало.
Не являются решающими и археологические доказательства этой гипотезы. Несколько курганов с обрядом трупосожжения, раскопанных Г.И. Боровкой на р. Толе, точно не датируются: наряду с хуннской керамикой в одном из них (Ихэ-Алык) найден типологически поздний наконечник стрелы, относящийся ко времени не ранее VIII-IX вв. н.э. (Боровка, 1927, с. 66-67, табл. III). Обычай сожжения погребальных камер зародился в Минусинской котловине еще в IV-III вв. да н.э. на сарагашенском этапе тагарской культуры (Пшеницына, 1975, с. 14) и получил дальнейшее развитие в больших курганах-склепах тесинского этапа (II-I вв. до н.э.). В какой
(14/15)
степени кыргызские сожжения на Среднем Енисее связаны с местной сарагашенско-тесинской или привнесенной (гяньгуньской?) традицией — вопрос, требующий специального исследования. Кстати, в источниках нигде не говорится, что гяньгуни хуннского времени сжигали своих покойников. Таштыкские склепы, в материалах которых представлены центральноазиатские элементы, по периодизации М.П. Грязнова (Грязнов, 1971), могут относиться к более позднему времени (III-V вв. н.э.). В целом же не отрицая возможности проживания гяньгуней в конце I тыс. до н.э. в Северо-Западной Монголии, приходится признать, что бесспорных доказательств этого нет и возможны другие точки зрения, также имеющие характер более или менее обоснованных гипотез.
В связи с этим наибольший интерес представляют новые материалы, относящиеся ко времени завоевания гэгуней Модэ шаньюем: погребения в каменных ящиках, грунтовых ямах, перекрытых плитами (очевидно, упрощенный вариант ящика) и куполообразных склепах в Туве, объединенные А.Д. Грачом под общим названием памятников улуг-хемской культуры (Грач. 1971, с. 99-100).
Первое погребение в каменном ящике, датированное II в. до н.э. — I в. н.э. было открыто в 1965 г. на могильнике Урбюн III (Савинов, 1969). Затем целая серия аналогичных погребений была исследована на могильниках Аймырлыг, Аргалыкты I, Кара-Даг, Иджир II и др. Материалы раскопок этих памятников, к сожалению, практически не опубликованы, но по кратким сообщениям о них можно судить о составе сопроводительного инвентаря, в котором сочетаются прежние вещи скифского облика с новыми формами предметов хуннского происхождения. Иногда погребения в каменных ящиках впущены в курганы с коллективными захоронениями в камерах-срубах саглынской (по А.Д. Грачу), уюкской (по Л.Р. Кызласову), или казылганской (по С.И. Вайнштейну) культуры V-III вв. до н.э., однако близость предметов сопроводительного инвентаря не только не дает возможности разделить их значительным промежутком времени, но и позволяет предполагать сосуществование на каком-то этапе «срубных» и «ящичных» захоронений в Туве. С одной стороны, это свидетельствует о более длительном, чем принято считать, существовании племен скифского времени; с другой — указывает на появление в конце III в. до н.э. нового пришлого населения, хоронившего своих покойников в каменных ящиках и хорошо знакомого с хуннской культурной традицией (Мандельштам, Стамбульник, 1980).
Одновременно в Туве появляются каменные склепы, исследованные на могильнике Аргалыкты I. Они представляли собой цилиндрические камеры, стенки которых были сплошь выложены плоскими каменными плитками, образовавшими в на-
(15/16)
земной части по принципу ложного свода невысокое куполообразное сооружение с плоским перекрытием из крупных плит. Найденные здесь немногочисленные предметы (керамика, аналогичная урбюнской, широкие костяные пластины с отверстиями, железные ножи и некоторые другие) позволяют определить время их сооружения III-II вв. до н.э. (Трифонов, 1976). Такого же типа склепы с перекрытием из крупных плит в виде ложного свода были раскопаны, на могильнике Аймырлыг. Предметы сопроводительного инвентаря (керамика, костяные пряжки, наконечники стрел) аналогичны найденным в каменных ящиках (Мандельштам, 1971; 1975, с. 220).
Со II в. до н.э. (тесинский этап) многочисленные погребения в каменных ящиках и грунтовые могилы с каменными конструкциями появляются в Минусинской котловине. Типы погребений тесинского этапа разнообразны: большие одиночные курганы — склепы с оградами и вертикально поставленными камнями у основания насыпи, погребения в срубах, каменных ящиках или грунтовые, образующие могильники, а также впускные захоронения в курганах более ранних археологических культур.
Захоронения в каменных ящиках — основной вид тесинских погребений. По данным 1975 г., они составляли 63% всех (294) исследованных могил (Пшеницына, 1975, с. 8, 15). Начиная с эпохи бронзы обряд погребения в каменных ящиках является традиционным для Минусинской котловины, однако он почти исчезает к концу сарагашенского этапа тагарской культуры. Поэтому правильнее связывать как бы «вторичное» появление каменных ящиков на тесинском этапе с аналогичными погребениями в Туве и притоком оттуда в начале II в. до н.э. нового населения, возродившего эту традицию, на Среднем Енисее. В пользу такого предположения говорят также не свойственный ранее для Минусинской котловины обычай впускных погребений в ограды более древних курганов и налепной валик на керамике, ранее здесь не встречавшийся, но являющийся отличительным признаком тувинской керамики скифского времени (Кызласов, 1960, с. 165; Савинов, 1969, с. 108).
Грунтовые могилы с каменными конструкциями, исследованные на могильниках Каменка V и Тепсей VII (мог. .3), по некоторым конструктивным особенностям напоминают тувинские склепы — колодцеобразные каменные намогильные сооружения, возможно, первоначально также полусферические, обкладка стен могильной ямы горизонтально положенными плитками (Шер, Савинов, Подольский, Кляшторный, 1968; с. 150; Пшеницына, 1979, с. 77-80). По размерам сооружений, глубине могильных ям и богатству предметов сопроводительного инвентаря они выделяются среди других тесинских могил, что может объясняться как социальными, так и этническими отличиями похороненных в них людей.
(16/17)
Отдельные погребения в каменных ящиках известны на Горном и Северном Алтае, в Прибайкалье и Забайкалье. Это может свидетельствовать о распространении каких-то групп носителей традиции «ящичных» погребений как в западном, так и в восточном направлениях. Повсеместно они сосуществуют с другими типами памятников — коллективными погребениями в камерах-срубах в Туве, позднетагарскими большими курганами в Минусинской котловине, сопроводительными захоронениями коней на Горном Алтае, хуннскими могилами в Забайкалье и т. д. Но основная масса оставившего их населения, судя по концентрации памятников, была сосредоточена в конце I тыс. до н.э. на Верхнем и Среднем Енисее.
Вопрос об этнической принадлежности памятников улуг-хемской культуры в Туве и тесинского этапа (или культуры) в Минусинской котловине еще не ставился в литературе. До публикации всех имеющихся материалов любое его решение носит предварительный характер. В порядке гипотезы можно высказать предположение о возможной принадлежности их гяньгуням. Основанием для этого может служить следующее: 1) совпадение хронологии событий, связанных с северным походом Модэ в 201 г. до н.э. и появлением «ящичных» погребений на севере Центральной Азии; 2) данные этногеографии о расселении гяньгуней в это время в Северо-Западной Монголии и на Верхнем Енисее; 3) присутствие хуннского компонента в культуре «тесинцев» и «улуг-хемцев», явно свидетельствующее о знакомстве их с культурой хунну; 4) последовательность распространения «ящичных» или близких им по культуре погребений, появившихся, по-видимому, с конца III в. до н.э. в Туве и со II в. до н.э. в Минусинской котловине; 5) несомненное участие тесинцев (гяньгуней?) в сложении таштыкской культуры, послужившей основой для дальнейшего развития культуры енисейских кыргызов.
^ Цюйше. Последний этноним, упомянутый в числе присоединенных Маодунем владений и поддающийся исторической интерпретации — цюйше. Б. Карлгреном была предложена транскрипция цюйше-кюйше как кыйчак, или кыпчак, которую наиболее активно поддержал А.Н. Бернштам (Бернштам, 1951, с. 63). Этой же точки зрения придерживаются другие исследователи (Гумилев, 1959, с. 19; Потапов, 1953, с. 143; 1969, с. 170; Кумеков, 1972, с. 10; Шаниязов, 1974, с. 32). Носителей этнонима цюйше обычно помещают в Северо-Западной Монголии. Основанием для этого служит упоминание о кыпчаках в известной Селенгинской надписи середины VIII в. н.э. (Малов, 1959, с. 38), хотя повторное исследование надписи показало, что наличие в ней этнонима кыпчак более чем сомнительно (Кляшторный, Султанов, 1976, с. 108). Тем не менее близость к племенам динлинов и гяньгуней позволяет предполагать первоначальное место обитания цюйше также в Центральной Азии.
(17/18)
Позже название цюйше упоминается еще раз в связи с историей Западнотюркского каганата при описании похода Дулу-хана в 641 г. н.э. против племен, не вошедших в состав союза дулу и нушиби, среди которых названы цзюйше и гэгу (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 259), т. е. кыргызы, в это время уже несомненно жившие на территории Среднего Енисея. Очевидно, по соседству с ними, скорее всего в бассейне Верхней Оби, должны были находиться и цюйше-кыпчаки, продвинувшиеся сюда как показывают археологические материалы, в начале I тыс. н.э. и ассимилировавшие местные племена большереченской культуры.
По мнению Т.Н. Троицкой, приблизительно к этому времени относится первая волна расселения в Новосибирском Приобье кулайских племен, которая была вызвана ослаблением большереченцев в результате нарушения их связей с юечжами (пазырыкцами), павшими под ударами военных походов хунну (Троицкая, 1979, с. 46). В результате на территории Северного Алтая и прилегающих районов юга Западной Сибири начинает складываться сложная этнокультурная общность, состоящая из местных и пришлых, северного и южного компонентов.
Одной из причин переселения гяньгуней на Средний Енисей и, возможно, цюйше на Верхнюю Обь могло послужить перенесение центра хуннского государства около 120 г. до н.э. в Монголию, несомненно активизировавшее отношения между хуннами и местным населением севера Центральной Азии. На завоеванных хуннами землях, естественно, происходило перемещение разных групп населения, осуществлялись взаимные контакты и процессы этнической ассимиляции, приводившие к передаче и распространению культурных ценностей, ведущее место среди которых принадлежало традициям хуннского этноса. Область распространения хуннской культуры или ее влияния была безусловно шире этнической территории собственно хуннов и охватывала все расположенные к северу от Монголии районы расселения подвластных им южносибирских племен.
^ Хунны в Южной Сибири. Следы пребывания хуннов в Южной Сибири не только многочисленны, но и разнообразны: в одних районах, более южных, встречаются хуннские памятники, в других — явно проявляется влияние хуннской культуры, в третьих, более северных и отдаленных, прослеживается опосредствованное ее преломление в культуре местных племен.
В Туве погребения хуннов, датируемые рубежом н.э., были открыты А.М. Мандельштамом на могильнике Бай-Даг II. Они представляли собой каменные курганы трапецевидной формы с пристройками — дромосами и глубокими могильными ямами, на дне которых находились гробы, помещенные в узкие прямоугольные срубы (Мандельштам, 1975, с. 232-233), аналогичные погребениям хуннской знати в Монголии (Ноин-Ула)
(18/19)
и рядовым хуннским курганам Забайкалья (Ильмовая падь др.). Стенки внутренних гробов на Бай-Даге II были украшены золотой фольгой, что соответствует описанию погребального обряда хуннов: «Для похорон употребляют внешний и внутренний гроб, золото и серебро...» (Таскин, 1968, с. 40). Возможно, с памятниками типа Бай-Даг II связана и хуннская керамика, найденная уже в достаточно большом количестве в Центральной Туве (Кызласов, 1979, с. 81-83).
Пребывание хуннов на Горном Алтае отмечено только случаями находок хуннской керамики. Впервые она была обнаружена в одном из курганов скифского времени на могильнике Узунтал I (Савинов, 1978, рис. 3). Поскольку курган был ограблен еще в древности, судить об обстоятельствах ее появления трудно. Позднее на Алтае были открыты керамические печи для изготовления такой керамики, бесспорно свидетельствующие о пребывании здесь какой-то группы хуннов (Кубарев, Кадиков, Чевалков, 1979, с. 238; Кубарев, 1980, с.-213).
Влияние хуннов наиболее отчетливо отразилось в сопроводительном инвентаре из погребений улуг-хемской культуры в Туве и тесинского этапа (или культуры) в Минусинской котловине, включающем в себя целый ряд предметов, ранее не встречавшихся в Южной Сибири, но имеющих ближайшие аналогии в хуннских памятниках Забайкалья, главным образом в материалах Дэрестуйского могильника и Иволгинского городища. К ним относятся наконечники стрел с расщепленным основанием, накладки луков хуннского типа, железные ножи с кольцевидным навершием, костяные пряжки с выступающим носиком, различного рода бронзовые ажурные украшения n т. д. Как отметил А.М. Мандельштам, эти предметы представляют «прежде всего оружие и принадлежности одежды — точнее составные части поясов, а также, вероятно, подвесов. Такое положение, очевидно, закономерно, так как в государстве сюнну существовала четко выработанная военная организация, основанная на наличии эффективного вооружения и приспособленной к практикуемой тактике одежды» (Мандельштам, 1975, с. 235).
В северные и западные районы Южной Сибири влияние хуннской культуры распространилось уже через среду населения тесинского этапа в Минусинской котловине и шибинского этапа на Горном Алтае. Так, в памятниках шестаковского этапа лесостепной тагарской культуры (Кемеровская обл.) наряду с прежними предметами тагарских форм найдено большое количество вещей тесинского облика, появление которых здесь исследователи связывают с распространением хуннской культуры (Мартынов, 1979; Мартынов, Мартынова, Кулемзин, 1979). Погребальный обряд памятников шестаковского этапа более всего соответствует большим тесинским курганам-склепам, однако здесь ни разу не найдены и, судя по степени изу-
(19/20) ченности, вряд ли будут обнаружены другие типы тесинских погребений (каменные ящики, грунтовые захоронения с каменными конструкциями и т. д.), отражающие приток на территорию Южной Сибири нового населения из Центральной Азии. В Восточном Казахстане в это время происходят существенные изменения кулажургинской культуры, памятники которой С.С. Черников подразделяет на два этапа: III в. до н.э. и II-I вв. до н.э. В погребениях поздней группы найдены короткий кинжал с прямым перекрестием шибинского (арагольского) типа, петельчатые и кольчатые ножи, типологически близкие тесинским (Черников, 1975, с. 135-136).
Своеобразным индикатором для определения границ влияния хуннской культуры на южносибирские племена могут служить поясные ажурные пластины с изображениями животных, аналогичные ордосским или забайкальским (Давыдова, 1971), полная сводка, которых опубликована М.А. Дэвлет (Дэвлет, 1980). В Туве единственная пока находка подобного рода (бронзовая бляха с изображением сцены борьбы тигра и ушастого грифона) происходит из захоронения в каменном ящике в Урбюне (Савинов, 1969, рис. 2). По мнению С.С. Миняева, производство урбюнской бляхи связано с джидинским (забайкальским) металлургическим центром (Миняев, 1980, с. 30). Условия находки позволяют предполагать, что она не могла служить просто поясной пряжкой, а скорее всего являлась символом социального положения носившего ее человека. Мысль о социально привилегированном положении людей, обладавших подобного рода предметами, была высказана также А.В. Давыдовой на примере прямоугольных пластин, найденных в одном из погребений Иволгинского могильника (Давыдова. 1971). На Среднем Енисее бронзовые ажурные пластины найдены в могилах тесинского этапа у горы Тепсей (Пшеницына, 1979, рис. 52), а также в виде кладов на севере области. В наиболее крупном из них (Косогольском) было найдено около 200 бронзовых изделий, в том числе и несколько ажурных бронзовых пластин (Нащёкин, 1967). Спектральный анализ показал, что «большинство изделий Косогольского клада, датируемых II-I вв. до н.э., изготовлено в Минусинской котловине» (Миняев, 1978, с. 43) и только «7 пластин, найденных в Южной Сибири, по химическому составу связываются с забайкальско-монгольскими очагами хунну», остальные же являются репликами местных мастеров хуннских импортных изделий (Миняев, 1980, с. 29-31). Последний вывод весьма важен для определения характера взаимоотношений южно-сибирских племен и хунну: находясь под влиянием хуннской культуры, население Южной Сибири не только воспринимало, но и самостоятельно воспроизводило образцы хуннской культуры. Думается, что это касалось не только предметов бронзолитейного производства, но и других элементов хуннского культурного комплекса.
(20/21)
Единичные находки бронзовых ажурных пластин известны также в Прибайкалье (Асеев, 1980, с. 50) и в Кемеровской области (Бобров, 1979, рис. 1). В целом они очерчивают территориальные границы влияния хуннской культуры: от Прибайкалья на востоке до Кемеровской области на западе, от Тувы на юге до северных районов Хакасии на севере. По всей указанной территории, очевидно, независимо от конкретных форм установившихся контактов, происходили этнокультурные процессы, заключавшиеся в постепенном разрушении культур скифского типа и столь же постепенном от Тувы до лесостепных районов Южной Сибири — распространении влияния хуннской культуры. В археологическом материале они выразились, с одной стороны, в резком сокращении бронзолитейного производства, изменении канонов скифо-сибирского звериного стиля, использовании в сопроводительном инвентаре в основном вотивных вещей, передающих форму прежних бронзовых предметов; с другой — в появлении и широком распространении к рубежу и. э. предметов из железа, кости и рога, так или иначе связанных с хуннской традицией.
Многие из этих вещей продолжают бытовать без существенных изменений и в древнетюркскую эпоху: костяные двудырчатые псалии (табл. I, 12), железные однокольчатые удила, топоры-тесла, пряжки с подвижным язычком различных типов (круглые, подпрямоугольные, с вогнутыми сторонами рамки), черешковые ножи, металлические наконечники ремней (табл. I, 2), трёхпёрые наконечники стрел с костяными насадами-свистунками. Особого внимания заслуживает лук хуннского типа, который в классическом виде имел семь накладок: две пары концевых и три срединных, из которых две широких помещались по бокам деревянной кибити (основы лука), а третья» узкая, со слегка расширяющимися концами — посередине между ними с внутренней стороны (табл. I, 9). Плечевые части лука дополнительно укреплялись узкими костяными пластинами (Хазанов, 1966, с. 39-40). Все дальнейшее развитие южно-сибирского лука шло по линии упрощения и усовершенствования лука хуннского типа (Савинов, 1981а).
Определенные заключения можно сделать и относительно хозяйственной деятельности хуннов. В письменных источниках хунны описываются как скотоводческий народ — они «вслед за пасущимся скотом кочевали с места на место» (Таскин, 1968, с. 64), что, видимо, было характерно для раннего, ордосского периода истории хуннов. Археологические раскопки в Забайкалье, в первую очередь открытие и раскопки знаменитого Иволгинского городища, вскрыли мощный пласт земледельческой культуры хуннов, сочетавшейся у них со скотоводством Давыдова, 1978, 1983). Тот же хозяйственно-культурный тип — сочетание земледелия и скотоводства при подсобной роли других занятий (охоты и т. д.), был характерен и для мно-
(21/22)
гих средневековых обществ Южной Сибири, например, енисейских кыргызов, уйгуров, кимаков. Культурное наследие хуннов должно было отразиться и на других элементах материального комплекса народов Южной Сибири, обычно не представленных в археологических материалах — формах переносного жилища (юрты), определенных типов одежды, деревянной и кожаной утвари, пищи и т.д..
Таким образом, начало образования прототюркского субстрата на территории Южной Сибири характеризуется двумя взаимосвязанными процессами: 1) сложением нескольких этнокультурных ареалов, которые по сохранившимся в письменных источниках сведениям могут быть названы юечжийским (Горный Алтай, Северо-Западная Монголия), протокыргызским (бассейн Верхнего и Среднего Енисея), протокыпчакским (степной Алтай) и прототелеским (на широкой территории от Байкала до Иртыша без точной локализации); 2) повсеместным распространением хуннской культуры, по-разному воспринятой южносибирскими племенами, но одинаково сыгравшей роль консолидирующего и направляющего фактора на пути развития древнетюркского историко-культурного комплекса. Намеченные этнокультурные ареалы легли в основу археологических культур первой половины I тыс. н.э. — таштыкской в Минусинской котловине, кокэльской в Туве, верхнеобской на Северном и памятников берельского типа на Горном Алтае.
Глава I. Сложение прототюркского субстрата
2. Первая половина I тыс. н.э. (с. 22-30)
История населения Южной Сибири первой половины I тыс. н.э. освещена в письменных источниках значительно слабее, чем последних веков до н.э. Известно, что районы севера Центральной Азии были включены в состав новых территориальных владений монголоязычных династий — сначала сяньбийцев (I-III вв.), а затем жуаньжуаней (IV — середина VI вв.). Археологические памятники того и другого народа не выявлены. А.Н. Бернштам связывал с сяньбийцами погребения известного Оглахтинского могильника в Хакасии (Бернштам, 1951, с. 46-47), но в настоящее время это представляется маловероятным.
Кокэльская культура. В Туве памятники первой половины I тыс. н. .э. были выделены Л.Р. Кызласовым под названием шурмакской культуры с разделением ее на два последовательных этапа: II в. до н.э. — I в. н.э. и II-V вв. н.э. (Кызласов, 1979, с. 79-120). Ту же культуру под названием сыын-чюрекской (II в. до н.э. — V в. н.э.) выделил С. И. Вайнштейн (Вайнштейн, 1958, с. 232-233; Вайнштейн, Дьяконова, 1966, с. 185-186). По наиболее крупному монографически исследованному могильнику Кокэль памятники первой половины I тыс. н.э.
(22/23)
могут быть с наибольшим основанием названы памятниками кокэльской культуры.
Бремя сложения кокэльской культуры требует уточнения в связи с открытием памятников улуг-хемской культуры и хуннских погребений типа Бай-Даг II, которые вряд ли могли появиться раньше рубежа н.э. Об этом говорят и многочисленные аналогии в памятниках таштыкской культуры, относительно поздний возраст которых после выделения тесинского этапа представляется наиболее вероятным. Показательны также случаи впускных захоронений кокэльского типа в хуннских курганах могильника Бай-Даг II, совершенных уже после их ограбления и свидетельствующих об относительной хронологии этих двух видов памятников. «Ранее сложившиеся представления,— пишет по этому поводу А.М. Мандельштам, — о существовании уюкской культуры только до III в. до н.э. и непосредственной смене ее памятниками типа Кокэль теперь требуют корректировки: накопились факты, говорящие о более длительном бытовании первой и относительно позднем появлении последних» (Мандельштам, 1975, с. 233-234).
Основные виды кокэльских погребений — одиночные захоронения в деревянных гробах, колодах или грунтовых ямах под каменными курганами и большие курганы-кладбища, включающие десятки (до сотни) таких же могил, образовавшихся, очевидно, в результате ряда последовательных подхоронений (Вайнштейн, Дьяконова, 1966; Вайнштейн, 1970; Дьяконова, 1970; 1970а; Кызласов, 1979, с. 85-96).
В могильнике Кокэль найдено огромное количество предметов, характеризующих материальную культуру населения Тувы в первой половине I тыс. н.э.: керамика, в основном характерные вазообразные сосуды с арочным орнаментом и котловидные, костяные накладки луков хуннского типа, трёхпёрые, в том числе и ярусные, наконечники стрел, (табл. I, 8), кольчатые и черешковые ножи, металлическая посуда, различного рода пряжки, деревянные модели луков, колчанов, мечей и кинжалов, разнообразные предметы утвари и т. д. По ряду признаков, в первую очередь наличию прямоугольных гробов со специальными отсеками для помещения бытовых предметов и погребальной пищи, иногда украшенных росписью, кокэльские погребения сближаются с рядовыми хуннскими курганами Забайкалья (Коновалов, 1976).
По поводу этнической принадлежности кокэльской культуры существует несколько точек зрения. Л.Р. Кызласов считает, что это местные племена, иначе не «обособились бы памятники собственно гуннов» (Кызласов, 1979, с. 81,84). С.И. Вайнштейн и В.П. Дьяконова относят погребения кокэльского типа к смешанному населению, образовавшемуся в результате ассимиляции местных (казылганских) и каких-то пришлых групп населения хуннского происхождения (Вайнштейн, Дья-
(23/24)
конова, 1966, с. 257). Позднее С.И. Вайнштейн указал на значительную близость кокэльских погребений и известного могильника Наймаа-Толгой в Западной Монголии (Вайнштейн, 1970, с. 79), показывающую возможные истоки этого населения. Еще более определенно в пользу хуннского происхождения памятников кокэльского типа высказался А. М. Мандельштам: «По ряду существенных черт данная культура, — отмечает он, — настолько близка к культуре сюнну, что есть достаточно оснований связывать ее происхождение с передвижением сюда какой-то многочисленной группы последних» (Мандельштам, 1975, с. 233). Действительно, ни по обряду погребения, ни по комплексу предметов сопроводительного инвентаря памятник» кокэльской культуры генетически не связаны ни с погребениями скифского времени, ни с улуг-хемской культурой, ни с хуннскими курганами типа Бай-Даг II. Они появляются в Туве сразу и в достаточно большом количестве, что может иметь место только в результате массовой миграции пришлых групп населения, ассимилировавших местные племена.
Особый интерес представляют несколько захоронений по обряду трупосожжения, исследованных С.А. Теплоуховым в Центральной Туве и Л.Р. Кызласовым на р. Шурмак, по которой и было дано название всей культуры — шурмакская (Кызласов, 1979, с. 114-119). В количественном отношении они абсолютно уступают кокэльским. Близость, керамического материала из кокэльских и шурмакских погребений не дает возможности достаточно аргументированно ответить па вопрос: представляют они хронологический или локальный варианты одной культуры. В то же время металлические изделия из шурмакских захоронений (меч с кольчатым навершием, удила с пропеллеровидными псалиями, наконечники стрел, наконечник копья, серпы) значительно отличаются от кокэльских. Из них датирующее значение имеет меч с кольчатым навершием, аналогичный найденным в погребениях VI-VII вв. в могильнике Релка на Средней Оби (Чиндина, 1977, табл. 9). Похожие вещи (однокольчатые удила, панцирные пластины, серп) происходят из кудыргинских оградок раннетюркского времени на Горном Алтае (Гаврилова, 1965, табл. IV-V). Поэтому не исключено, что погребения с трупосожжениями, открытые на р. Шурмак, представляют близкую кокэльской, но отличную в этническом отношении группу населения, каким-то образом связанную с ранними тюрками, хотя настаивать на этом предположении в настоящее время нет достаточных оснований. Интересной особенностью кокэльских и шурмакских погребальных сооружений являются поминальные курганы, в которых, как правило, находится аналогичная керамика с арочным орнаментом, иногда кости домашних животных и отдельные вещи. От некоторых из них в северо-восточном направлении отходит ряд вертикально вкопанных камней. Как уже отмечалось, вертикально
(24/25)
вкопанные камни у погребений встречались и раньше в культуре плиточных могил Забайкалья, у больших и малых курганов пазырыкской культуры на Горном Алтае, однако здесь впервые цепочки вертикально вкопанных камней устанавливаются не только у погребальных, но и поминальных сооружений т е. в той же ритуальной ситуации, что и камни-балбалы древнетюркского времени.
Дальнейшая судьба населения кокэльской культуры неизвестка. Погребения с конем, наиболее характерные для Тувы в середине — второй половине I тыс. н.э., генетически не связаны с кокэльскими. Можно предполагать, что какая-то часть кокэльцев вслед за гяньгунями переселилась на Средний Енисей. Об этом говорит появление в это время в Минусинской котловине отдельных сосудов, украшенных арочным орнаментом (Кызласов, 1960, рис. 13). Возможно, что к этому имеют отношение чрезвычайно интересные и единственные в своем роде погребения в каменных ящиках с трупосожжениями и таштыкской керамикой, открытые на могильнике Хадынных в Саянском каньоне Енисея (Семенов, 1979).
Таштыкская культура. С первых веков н.э. на базе тесинского этапа (или культуры) вырастает новая таштыкская культура, получившая широкую известность благодаря исследованиям С.А. Теплоухова, Г.П. Сосновского, С.В. Киселева, Л.Р. Кызласова, М.П. Грязнова, Э.Б. Вадецкой н других исследователей.
Поскольку историческая интерпретация памятников таштыкской культуры будет дана в специальном разделе (Глава II), остановимся кратко на вопросах хронологии памятников и оценке представленного в них центральноазиатского компонента.
С.А. Теплоухов, открывший таштыкскую культуру (или таштыкский переходный этап), определил время ее существования от рубежа н.э. (грунтовые могилы) до III-V вв. (таштыкские склепы). К ним тесно примыкают, по мнению С.А. Теплоухова, каменные курганы типа чаа-тас (V-VII вв.), наиболее характерные для культуры енисейских кыргызов (Теплоухов, 1929, с. 50-55). С.В. Киселев считал грунтовые могилы и погребения в склепах одновременными и в целом датировал их I в. до н.э. — IV в. н.э. (Киселев, 1951, с. 472).
Памятники таштыкской культуры были разделены Л.Р. Кызласовым на ряд последовательных этапов: изыхский (I в. до н.э. — I в. н.э.), сырский (I—II вв. н.э.), уйбатский (III в. н.э.) и переходный или камешковский (IV—V вв. н.э.) (Кызласов, 1960). Помимо подробной характеристики каждого i них по материалам погребального обряда и комплексам предметов сопроводительного инвентаря, в работе Л. Р. Кызласова содержится ряд наблюдений о цеитрально-восточноази атских параллелях отдельным элементам таштыкской культуры,
(25/26)
к которым относятся: форма склепов под усеченно-пирамидальными насыпями с боковым входом-дромосом, отдельные типы керамики и ее орнаментация, погребальные статуэтки и церемониальные зонты, имеющие аналогии в памятниках ханьской династии (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) и погребениях хуннских шаньюев в Ноин-Уле (Кызласов, 1960, с. 27, 49—50, 63-64, 134—135). Эти элементы, как полагает Л.Р. Кызласов, появляются на раннем (изыхском) этапе таштыкской культуры и характерны главным образом для левобережных таштыкских склепов под усеченно-пирамидальными земляными курганами, отличающихся от правобережных склепов под «юртообразными» курганами и по составу керамики (Кызласов, 1960, с. 14, 18, 66—67).
Новая датировка памятников таштыкской культуры предложена М.П. Грязновым, разделившим ее на два этапа: батеневский (I-II вв. н.э.) и тепсейский (III-V в. н.э.). «И по форме, и по орнаменту керамика батеневского этапа, — отмечает М.П. Грязнов, — очень близка к керамике предшествующего тесинского этапа и генетически с нею связана», в то время как «в памятниках тепсейского этапа аналогии с тесинскими уже не наблюдаются. Зато можно усмотреть некоторое продолжение их в памятниках енисейских кыргызов» (Грязнов, 1971, с. 96-99). По периодизации М. П. Грязнова, все таштыкские склепы и соответственно содержащиеся в них элементы центрально-восточноазиатского происхождения относятся к более позднему времени (III-V вв.), что не исключает возможной преемственности их на исходной территории с прежней ханьской традицией. Косвенным образом это подтверждается тем, что центрально-восточноазиатский компонент, выделенный Л. Р. Кызласовым для изыхского этапа (I в. до н.э. — I в. н.э.), не имеет ничего общего с центральноазиатским (хуннским) компонентом тесинского этапа, бесспорно относящимся к этому времени.
Очевидно, компонентный состав таштыкской культуры был достаточно сложным. В ее формировании принимали участие как местные, так и пришлые группы населения, среди которых в первую очередь должны быть названы тесинцы (гяньгуни?) и, возможно, какие-то группы населения кокэльской культуры, проникавшие на территорию Среднего Енисея из Тувы. На тепсейском этапе все эти компоненты, сплоченные в один культурный пласт, составили основу культуры енисейских кыргызов.
Верхнеобская культура. Одновременно на территории Северного Алтая складывается верхнеобская культура, сменившая здесь большереченскую. Открывший ее М.П. Грязнов писал, что «начиная примерно со II в. н.э. весь внешний облик археологических памятников на Верхней Оби резко изменился, появилась и начала развиваться новая культура (верхне-
(26/27)
обская. — Д.С.), привнесенная сюда извне» (Грязнов, 1956, 99) прошедшая в своем развитии три последовательных этапа: одинцовский (II-V вв.), переходный (V-VI вв.) и фоминский (VII-VIII вв.). Происхождение верхнеобской культуры M.П. Грязнов связывал с угорскими племенами, пришедшими с северо-запада и вытеснившими или ассимилировавшими местное население большереченской культуры (Грязнов, 1956, с 113). В настоящее время эта периодизация на материалах Новосибирского Приобья пересмотрена Т.Н. Троицкой: фоминский этап датируется I-III вв. и относится к поздней кулайской культуре, переходный — III-IV вв., а одинцовский -V-VI, возможно, до рубежа VII в. н.э. (Троицкая, 1979, с. 43-44; 1981), однако культурная характеристика верхнеобского населения осталась прежней.
Именно в это время (переходный и одинцовский этап) на территории Северного Алтая появляется обряд трупосожжения, который сочетается здесь с обрядом трупоположения с северовосточной ориентировкой. Среди предметов сопроводительного инвентаря встречаются удила без перегиба, серьги в виде «знака вопроса» на длинном стержне, гривны с петлеобразными изгибами, известные впоследствии в культуре средневековых кыпчаков. Сопряженным с этими находками можно считать в целом скотоводческий облик культуры верхнеобского населения, отразившийся в большом количестве костей домашних животных, оставшихся на местах захоронений от поминок и тризн. Среди них представлены главным образом черепа и кости лошади — следы тризн, когда «шкура жертвенного животного с оставленными в ней черепом и костями ног укладывалась в могилу или оставлялась на месте пиршества» (Грязнов, 1956, с. 103). Данная особенность погребального обряда наиболее характерна для позднекочевнических захоронений начала II тыс. н.э., в том числе и кыпчакских. Видимо, и на территории Северного Алтая есть основания связывать эти культурные элементы с древними кыпчаками (цюйше?), продвинувшимися сюда в начале I тыс. н.э. и принявшими участив в сложении верхнеобской культуры. Одна могила одинцовского типа, отмечающая путь расселения протокыпчаков на север, известна на Горном Алтае (Гаврилова, 1965, с. 52-53).
Население верхнеобской культуры было сложным по своему этническому составу и включало как минимум два компонента: северный, предположительно угорский (круглодонные сосуды с характерной орнаментацией, представляющие, по мнению Т.Н. Троицкой, дальнейшее развитие форм кулайской керамики; наземные срубные намогильные сооружения; много-численные находки костяных наконечников стрел, свидетельствующие о развитом охотничьем промысле) и южный, предположительно кыпчакский (скотоводческий облик хозяйства, культ коня в погребально-поминальном цикле, появление не-
(27/28)
многочисленных, но характерных кочевнических элементов а сопроводительном инвентаре).
Постепенное преобладание южного компонента убедительно прослеживается по материалам погребений, раскопанных А.П. Уманским, на р. Чумыш (с северо-восточной ориентировкой и в одном случае с сопроводительным захоронением коня). Набор предметов сопроводительного инвентаря из этих погребений (котел, ярусные наконечники стрел с костяными насадами-свистунками, панцирные пластины, палаши, накладки лука хуннского типа, железные однокольчатые удила, крюки от колчанов и т. д.) по своему составу ближе памятникам тюркского времени, нежели хуннского. В связи с этим А.П. Уманский поставил интересный вопрос, «не является ли верхнеобская культура лишь вариантом более широкой культурной общности, распространившейся в Южной Сибири от Южного Алтая до Томска и Ачинска на севере» и пришел к выводу о возможности проникновения «в этническую среду не только Горного Алтая, но и Верхнеобья раннетюркских элементов по крайней мере с III-IV вв. и. э.» (Уманский, 1974, с. 136-149).
Особого внимания заслуживает вопрос о взаимоотношениях таштыкской и верхнеобской культур. Исследователи уже неоднократно отмечали находки характерных таштыкских изделий (миниатюрные котелки «скифского типа», пряжки с отогнутым наружу шпеньком на длинном щитке с насечками, витые гривны) в памятниках верхнеобской культуры, свидетельствующие о каких-то формах контактов приенисейских и приобских племен. Вместе с тем предметы верхнеобской культуры почти не встречаются в таштыкских погребениях, что можно рассматривать как свидетельство преобладания восточного влияния в реализации подобных контактов.
В этой связи как будто удается наметить истоки ажурного стиля, наиболее характерного для декоративно-прикладного искусства северо-алтайских племен в конце I тыс. н.э. (сросткинская культура). Таким же образом были оформлены металлические детали таштыкских поясов. На некоторых из них представлен орнаментальный мотив в виде двойной волюты, известный впоследствии на костяных обкладках колчанов восточноевропейских кочевников, в том числе и кыпчаков, в начале II тыс. н.э. В свою очередь, декоративные приемы оформления поясов таштыкской культуры, найденных в Изыхском, Уйбатском, Тепсейских и других склепах (по М.П. Грязнову, III-V вв.), возможно, восходят к ажурным поясным пластинам хуннского времени, появившимся в Минусинской котловине на тесинском этапе.
Памятники берельского типа. Памятники первой половины I тыс. н.э. на Горном Алтае исследованы хуже, чем во всех остальных районах Южной Сибири. Наиболее яркими из них являются курганы, раскопанные С.С. Сорокиным в Балык-
(28/29)
тыюле около Пазырыка (Сорокин, 1977), однако культурная принадлежность их до настоящего времени остается неясной. Все остальные (кроме одинцовского) известные погребения этого времени на Горном Алтае (Катанда I, Берель, Кокса и Яконур) были объединены А.А. Гавриловой под названием могил берельского типа и датированы IV-V вв. н.э. (Гаврилова, 1965, с. 54-57). По некоторым найденным в них предметам (трёхпёрые наконечники стрел с роговыми насадами-свистунками, костяные подпружные пряжки с округлой верхней частью) они непосредственно примыкают к курганам раннетюркского времени; другие вещи (накладки луков хуннского типа, копье сарматского облика, отдельные виды украшений), а также отсутствие стремян, архаизируют берельский комплекс при условии его существования в рамках одного хронологического этапа.
Главной особенностью берельских погребений является устойчивый обряд захоронения с конем и преимущественно восточная (широтная) ориентировка погребенных, причем в некоторых случаях, так же как и в рядовых курганах шибинского этапа, встречается одновременно захоронение 2-3 коней. То и. другое наиболее характерно для саяно-алтайских погребений с конем середины — второй половины I тыс. н.э. «Можно предполагать, — отмечает А.А. Гаврилова, — что этот обряд погребения не прерывался на Алтае с периода ранних кочевников» (Гаврилова, 1965, с. 57).
Последнее обстоятельство имеет принципиально важное значение для определения этнической принадлежности не только могил берельского типа, но и всех последующих погребений с конем на территории Саяно-Алтайского нагорья. Они появляются на Горном Алтае в предтюркское время, продолжают существовать после гибели Древнетюркских каганатов и, следовательно, с точки зрения специфики погребального обряда не могут считаться в узком, этническом значении термина собственно тюркскими. А.А. Гаврилова считает, что могилы берельского типа принадлежали племенам теле, «являющимся, судя по письменным источникам, потомками сюнну-хунну» (Гаврилова, 1965, с. 57). Несмотря на то, что это предположение представляется наиболее вероятным, оно требует дополнительных доказательств.
Обычай сопроводительных захоронений коней не был характерен для хуннов. Обряд погребения динлинов (предположительно — теле) неизвестен. В то же время погребения с конём составляют отличительную черту алтайского (юечжийского?) населения вплоть до заключительного (шибинского) этапа пазырыкской культуры. Идентификация их с пленами теле предполагает заимствование этого обряда динлиами-теле у юечжей, после того как последние были изгнаны ми со своей территории, и только какая-то их часть сохранилась на Горном Алтае. С какого хронологического уровня
(29/30)
можно называть алтайские погребения телескими — сказать трудно. В качестве условной даты может быть принято время существования памятников берельского типа (IV-V вв.), т. е. период господства в Центральной Азии жуань-жуаней — непосредственных политических предшественников Первого тюркского каганата.
Глава II. Раннетюркское время 1. Древнетюркские генеалогические предания и археологические памятники раннетюркского времени (с. 31-40)
Важнейшим источником по ранней истории тюрков-тугю до образования ими Первого тюркского каганата являются древнетюркские генеалогические легенды, в наиболее полном виде сохранившиеся в династийной хронике Чжоу шу (Бичурин, 1950, с. 220-222; Лю Мау-цай 1958, с. 5-6). Анализу легенд посвящено много специальных работ (Аристов, 1897, с. 4-8; Грумм-Гржимайло, 1926, с. 208-210; Киселев, 1951, с. 493-494; Кляшторный, 1964, с. 103-106; 1965; Гумилев, 1967, с. 23-24; Зуев, 1967; Потапов, 1969, с. 54-55; Сердобов, 1971, с. 53-55; Нестеров, 1979), поэтому, не рассматривая подробно их содержания, остановимся на генеалогии раннетюркских правителей и месте действия описанных в них событий.
Династия Ашина. По одной из легенд предки древних тюрков, «отдельная отрасль Дома Хунну по прозвищу Ашина», были уничтожены воинами соседнего племени, после чего остался мальчик, которому враги отрубили руки и ноги и бросили в болото. Здесь его нашла и выкормила волчица, поселившаяся затем в горах севернее Гаочана (Турфанский оазис). В числе детей, родившихся от брака волчицы и мальчика, был Ашина, «человек с великими способностями». Один из его потомков Асянь-шад переселился на Алтай, где оказался под властью кагана жуань-жуаней, для которых тюрки плавили железо. Широкое распространение этой генеалогической легенды в древнетюркской среде блестяще подтвердилось находкой Бугутской стелы времени Первого тюркского каганата (между 581 и 587 гг.), где помимо надписей находилось барельефное изображение волка (или волчицы), под брюхом которого расположена человеческая фигурка. «Вряд ли есть основания сомневаться, — отмечают исследователи, — что перед нами изображение сцены древнетюркского генеалогического мифа, наиболее полный пересказ которого содержится в хронике Чжоу шу» (Кляшторный, Лившиц, 1978, с. 57).
(31/32)
По другой легенде, «предки тукюесского Дома происходят из владетельного Дома Со, обитавшего от хуннов на север». .Глава племени Апанбу имел 70 (по другой версии 17) братьев. Один из братьев — Ичжинишиду, названный «сыном волчицы», имел несколько сыновей, каждый из которых получил во владение свое наместничество: старший из них — Нодулу-шад, принявший имя Тÿрк, правил в горах Басычусиши; второй — на реке Чуси; третий превратился в лебедя; четвертый «царствовал между реками Афу и Гянь, под наименованием Цигу». У Нодулу-шада от младшей жены был сын Ашина, который, став вождем племени, принял имя Асянь-шад. Его потомок (внук или внучатый племянник) Тумынь (Бумынь) стал основателем Первого тюркского каганата.
С.Г. Кляшторный, наиболее полно исследовавший древнетюркские генеалогические легенды в сопоставлении с историческими свидетельствами династийной хроники Суй шу, отметил «имеющуюся в них реалистическую основу, историографическая ценность которой в настоящее время кажется несомненной» и предложил разделить раннюю историю племени Тÿрк на два периода: ганьсуйско-гаочанский, когда предки тюрков Ашина формировались из постхуннских и местных ираноязычных племен на территории Восточного Туркестана (III в. н. э. — 460 г.), и алтайский, когда сложившийся тюркский этнос переселился на территорию Монгольского Алтая (460-552 гг.) (Кляшторный, 1965, с. 281). Выделение первого, ганьсуйско-гаочанского периода в истории ранних тюрков имеет принципиальное значение, так как показывает истоки древнетюркской государственности, возникшей в результате развития традиций хуннского государства, усиленных во время пребывания группы южных хуннов в провинции Ганьсу и Восточном Туркестане, одном из наиболее древних земледельческих центров Азии.
Обычно сохранившиеся в Чжоу шу древнетюркские легенды рассматриваются как два варианта одного генеалогического цикла. Действительно, та и другая легенда рассказывают об одних и тех же событиях, но время их возникновения, по-видимому, различно. Первая легенда сохраняет древнюю мифологическую, в какой-то степени даже тотемическую, основу и доводит рассказ до переселения тюрков на Алтай; вторая — более конкретна, насыщена именами и завершается временем создания Первого тюркского каганата. Если в первом предании легендарное происхождение от волчицы составляет основную сюжетную линию, то во втором Ичжинишиду только попутно назван «сыном волчицы», что можно рассматривать как намеренное желание подчеркнуть его связь с мифологической традицией правящей тюркской династии. Показательно также, что во второй легенде ничего не говорится о переселении на Алтай, которое могло иметь место раньше, а сыновья Ичжинишиду получают во владения наместничества, возможно, находившиеся на
(32/33)
территории Южной Сибири. В этом отношении интересно наблюдение С.П. Нестерова о том, что «географические и этнические знания легенд очень локальны: первая легенда знает только Северо-Западную Монголию (точнее, районы севернее Восточного Туркестана. — Д.С.), вторая легенда — только Саяно-Алтай» (Нестеров, 1979, с. 132), но считать их «двумя самостоятельными рассказами о политической и этнической жизни разных племенных единиц» вряд ли возможно. Скорее, они отражают как бы две части одного легендарного цикла, первая из которых соответствует ганьсуйско-гаочанскому периоду в жизни древних тюрков, а вторая — алтайскому.
В таком случае переселение тюрков на Алтай могло произойти еще при Ичжинишиду (или Нодулу-шаде, принявшем имя Тÿрк), что подтверждается ретроспективным анализом поколений, указанных во второй легенде тюркских правителей. От первого реального лица древнетюркской истории Тумыня (Бумыня), самое раннее посольство к которому отмечено источниками в 545 г., до легендарного Ичжинишиду прошло четыре поколения (Тумынь — Туу — Нодулу — Ичжинишиду), что при принятом подсчете срока одного поколения в 25 лет составляет один век, т. е. в принципе соответствует промежутку времени от переселения тюрков на Алтай до создания ими Первого тюркского каганата. При подобной реконструкции остается неясной роль основоположника тюркской династии — Ашина, однако, скорее всего, это имя с самого начала было не столько личным, сколько династийным, определяющим элитарно-правящую верхушку древнетюркского общества. По мнению С.Г. Кляшторного, следует «искать исходную форму имени Ашина не в тюркских языках, а в иранских и «тохарских» диалектах Восточного Туркестана. В качестве одного из гипотетических прототипов имени можно выделить сакское asana — «достойный, благородный» (Кляшторный, 1965, с. 281). В этом значении оно употреблялось и позже наряду с личными именами правителей Первого каганата.
Первая локализация упомянутых во второй легенде географических названий была предпринята Н.А. Аристовым, сопоставившим владение Со с родом со Верхнекумандинской волости на северном Алтае, а легендарный сюжет превращения в лебедя (тюрк, куу) — с этническим названием куу-кижи, т. е. ле-бединцами, жившими также на Северном Алтае на р. Лебедь. Названия Чуси и Басычусиши (по С.П. Нестерову — «верхне-чусийцы») Н.А. Аристов связывал с р. Чуей на Горном Алтае, а Афу и Гянь с Абаканом и Енисеем, в междуречье которых находилось владение Цигу (Аристов, 1897, с. 5-6). После выхода в свет работы Н.А. Аристова лесостепные районы Север-нoro Алтая, в частности небольшая р. Лебедь, надолго связались в представлениях исследователей с прародиной древних тюрков, хотя это никак не объясняло ни причин появления древ-нетюркской государственности, ни особенностей их культуры,
(33/34)
не имевшей ничего общего с культурой северо-алтайских племен. Очевидно, ошибка Н. А. Аристова заключалась в том, что он отнес эти названия к самому началу сложения древнетюркского этноса, которое проходило, как сейчас ясно, совершенно в другом регионе Азии, в то время как они относятся к следующему, алтайскому периоду истории ранних тюрков. С этой поправкой предложенные Н. А. Аристовым отождествления имеют право на существование, а некоторые из них (Афу — Абакан, Гянь — Енисей) полностью сохраняют свое значение.
Алтайский период в истории древних тюрков, или тюрков-тугю, менее других освещен в письменных источниках. Можно предполагать, что, переселившись в 460 г. на территорию Монгольского Алтая, они сохраняли некоторое время известную самостоятельность, так как иначе вряд ли могли иметь возможность создать здесь свои наместничества во главе с членами правящей династии Ашина. На новых местах своего расселения, в том числе и на территории вновь созданных ими владений, тюрки-тугю должны были столкнуться с местными племенами, носителями прототюркского культурного субстрата. Видимо, к этому времени могут относиться первые процессы аккультурации, положившие начало созданию древнетюркского историко-культурного комплекса.
В период своего существования в горах Монгольского Алтая тюрки-тугю оказались под властью жуань-жуаней и находились в зависимости от них до середины VI в. Это должно было вызвать отделение созданных ими владений и временное подчинение тюркского этноса. В то же время присутствие тюрков династии Ашина, носителей традиций древней хуннской государственности, на территории Монголии не могло не вызвать концентрации вокруг них других тюркоязычных племен, противников монголоязычных жуань-жуаней. Однако сами тюрки, очевидно, были слишком малочисленны для решающего переворота. Они воспользовались выступлением против жуань-жуаней телеских племен, напали на них, захватили «весь аймак, простиравшийся до 50000 кибиток» (Бичурин, 1950, с. 228), и, уже используя силу теле, разбили жуань-жуаней. Тот факт, что племена теле, очевидно, потомки древних динлинов, первыми (правда, неудачно) выступили против жуань-жуаней, представляется весьма показательным. В среде местных телеских (динлинских?) племен постоянно, еще с хуннского времени, росло стремление к автономии и созданию собственной государственности, выразившееся как в неоднократных выступлениях против хуннов, затем сяньбийцев, так и в попытке самостоятельно сокрушить владычество жуань-жуаней, которой воспользовались тюрки-тугю, создавшие при их участии в 552 г. Первый тюркский каганат.
Погребальный обряд тюрков-тугю. Наиболее сложным является вопрос о выделении археологических памятников ранне-
(34/35)
тюркского времени, хотя погребальный обряд тюрков-тугю достаточно подробно описан в династийной хронике Таншу: «В избранный день берут лошадь, на которой покойник ездил, и вещи, которые он употреблял, вместе с покойником сжигают; собирают пепел и зарывают в определенное время года в могилу. Умершего весною и летом хоронят, когда лист на деревьях и растениях начнет желтеть и опадать, умершего осенью или зимой хоронят, когда цветы начинают развертываться... В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный облик покойного и описание сражений, в которых он находился в продолжении жизни. Обыкновенно, если он убил одного человека, то ставят один камень. У иных число таких камней простирается до ста и даже до тысячи» (Бичурин, 1950, с. 230). Из этого описания можно вывести заключение об основных элементах погребального обряда тюрков-тугю: трупосожжение вместе с конем и предметами сопроводительного инвентаря, определенный промежуток времени между фактами смерти и захоронения, установка около могилы (но не над могилой) изображения покойного и какого-то мемориального памятника с описанием событий era жизни, а также вертикально вкопанных камней по количеству убитых им врагов.
Ни одного археологического памятника, полностью соответствующего приведенному описанию, ни в Южной Сибири, ни в Центральной Азии до сих пор не известно, хотя многие его элементы встречаются уже в раннетюркское время. Причин этому может быть несколько: 1) погребения тюрков-тугю на территории Центральной Азии и Южной Сибири еще не открыты; 2) источник носит компилятивный характер, в нем в едином описании погребально-поминального цикла фигурируют разновременные сведения; 3) древнетюркская погребальная обрядность в том виде, в каком она зафиксирована письменными источниками, сложилась позднее на основе различных компонентов, представленных в некоторых археологических памятниках Южной Сибири раннетюркского времени. В наибольшей степени соответствует древнетюркскому погребальному обряду, по описаниям письменных источников, комплекс на плато Улуг-Бюк, состоящий из квадратной оградки, двух округлых оградок, внутри одной из которых находилась стела с изображением горного козла, а рядом — погребение с богатым сопроводительным инвентарем VII-VIII вв. (ср. «здание построенное при могиле») (Длужневская, 1975, с. 201-202).
Комплекс из Хачы-Хову. Несколько погребений с остатками трупосожжений в кольцевых выкладках было исследовано А.Д. Грачом в юго-западной Туве (Хачы-Хову); рядом с ними находились четырехугольные оградки с вертикально стоящими стелами (Грач, 1968). Это соответствует указанию источника о раздельном расположении погребальных и поминальных сооружений у тюрков-тугю. К сожалению, ни в одной из раско-
(35/36)
панных А.Д. Грачом выкладок не было найдено никаких предметов сопроводительного инвентаря, позволяющих достоверно судить о времени их создания. Тем не менее по изображению горного козла на одной из стел и руноподобным знакам, относящихся, по мнению некоторых исследователей, к проторунической письменности, памятник был определен А.Д. Грачом как ранние тюркские сожжения и датирован VI-VII вв. Такого же рода погребение с остатками трупосожжения в кольцевой выкладке рядом с четырехугольной оградкой, правда, без стелы было раскопано Ю.И. Трифоновым в Центральной Туве (Трифонов, 1973, с. 363). Мнение о тюркской принадлежности этих памятников было подвергнуто резкой критике со стороны Л.Р. Кызласова, датировавшего их скифским временем (Кызласов, 1977), однако, как показал ответ А.Д. Грача, приведенные доказательства для передатировки комплекса из Хачы-Хову не являются решающими (Грач, 1978).
Не касаясь специально вопроса об оценке знаков на тувинских стелах как добуквенной рунической письменности, следует отметить, что изображение горного козла в верхней части одной из стел действительно входит в круг тамгообразных рисунков горных козлов тюркского времени, но по своим стилистическим особенностям несколько отличается от знаменитых каганских тамг на Орхоне (табл. IX, 2-4), так как еще несет в себе элемент объемного изображения натуры, характерного для предшествующего времени. Показательно, что оно не только расположено в головной части стелы, как на мемориальных памятниках тюркских каганов, но так же, как и там, отделено выбитой изогнутой линией, образующей своего рода картуш (табл. IX, 1). Это свидетельствует о смысловом единстве этих памятников, несмотря на разность исполнения и социальную значимость людей, которым они были посвящены. Наскальные изображения горных козлов, широко распространенные в пределах Первого тюркского каганата, отличаются большей степенью стилизации, чем на стеле из Хачы-Хову (табл. IX, 9-13). Поэтому имеются основания предполагать, что погребения с трупосожжениями в кольцевых выкладках, около которых устанавливались стелы с более архаическими рисунками, могут относиться к предшествующему времени, т. е. первому появлению тюрков-тугю на севере Центральной Азии, и датироваться V-VI вв.
Однако и они до конца не соответствуют описанию древнетюркского погребального обряда, так как, по указанию источника, для него было характерно не просто трупосожжение, а трупосожжение вместе с конем — такие погребения для раннетюркского времени неизвестны. Тем не менее эта деталь, свидетельствующая о близости иррациональных представлений тюрков-тугю и алтайских теле, также хоронивших своих покойников в сопровождении коня, представляется крайне важной.
(36/37)
Одно погребение по обряду трупосожжения с конем, датируемое IX-X вв., открыто в Минусинской котловине (Тепсей III, мог. 9), Ю.С. Худяков относит его к тюркам-тугю, проникшим на Средний Енисей в начале VIII в. и перенявшим местный обычай кремации (Худяков, 1979, с. 151, 159), хотя не исключено и длительное сохранение этой формы обрядности наряду с другими центральноазиатскими элементами в культуре енисейских кыргызов.
Кудыргинский валун. На Горном Алтае с древними тюрками связываются одиночные и смежные оградки, а также известное «изваяние»-валун на могильнике Кудыргэ. А.А. Гаврилова относит их ко времени «ранее VI в. и до начала VII в.» (Гаврилова, 1965, с. 13). К сожалению, материалы из кудыргинских оградок частично утрачены, а сохранившиеся вещи недостаточно выразительны для определения их точной датировки. Некоторые из них, как уже говорилось, имеют аналогии в шурмакских (до V в.) погребениях с трупосожжениями в Туве. В самих кудыргинских оградках остатков захоронений не обнаружено.
Косвенным свидетельством ранней даты кудыргинских оградок является находка «изваяиия»-валуна, который «первоначально стоял у оградки, а потом был вторично использован для кладки овала мог. 16» (Гаврилова, 1965, с. 18-19). Кудыргинский валун, по-видимому, можно рассматривать как одно из ранних древнетюркских каменных изваяний. На одной его стороне в верхней части изображено мужское лицо с раскосыми глазами, усами и бородой (по этому признаку кудыргинский валун входит в ряд так называемых «лицевых» изваяний); на другой представлена сюжетная сцена, в которой участвуют две крупные, сидящие анфас нарядно одетые фигуры (одна из них женская, другая — детская) и три более мелкие коленопреклоненные профильные фигурки (две из них в масках) с оседланными лошадьми. По мнению А.А. Гавриловой, «кудыргинский валун соответствует букве летописного источника тем, что он не изваяние, а именно „нарисованный облик" человека, хотя и не на плоской, а на объемной поверхности валуна» (Гаврилова, 1965, с. 20).
По поводу семантики изображений на кудыргинском валуне существуют различные точки зрения. Не разбирая их подробно, следует отметить, что вся сцена носит явно повествовательный характер. Исходя из размеров рисунка, можно предполагать, что главным ее действующим лицом является мужчина, изображенный на лицевой стороне камня, которому посвящены ритуальные действия, скорее всего связанные с погребально-поминальным циклом и представленные на другой стороне валуна. В таком случае женщина и ребенок в богатых одеждах, вероятнее всего, являются членами семьи (жена и наследник?) умершего знатного лица, принимающего дары (или какую-нибудь
(37/38)
другую форму поклонения) по поводу его кончины. Таким же образом могут быть интерпретированы сцены на таштыкских стелах из Минусинской котловины, о которых будет сказано ниже.
Могильник Кудыргэ. Погребения с конем раннетюркского времени на Горном Алтае наиболее полно представлены материалами знаменитого могильника Кудыргэ, неоднократно привлекавшего к себе внимание исследователей. С.В. Киселев датировал кудыргинские погребения V-VI вв. и считал их «более ранними, чем время сложения древнего государства алтайских туг-ю во главе с ханом (каганом) Бумынем» (Киселев, 1951, с. 497). Позднее материалы Кудыргинского могильника были полностью опубликованы А.А. Гавриловой, выделившей среди них несколько поздних могил XIII-XIV вв. (часовенногорский тип) и датировавшей все остальные погребения (более 20) VI-VII вв. (кудыргинский тип). Главным основанием для этого послужила находка в одной из могил (№ 15) медной монеты выпуска 575-577 гг. Вместе с тем А.А. Гаврилова отметила своеобразие кудыргинских могил по сравнению с берельскими, выразившееся в меридиональной ориентировке погребенных и наличии ряда форм предметов, сближающихся с сериями аварских вещей в Подунавье. По мнению А.А. Гавриловой, это объясняется тем, что «кудыргинцы — пришельцы на Алтае, вклинившиеся на территорию, занятую ранее берельскими племенами, продолжавшими жить и в кудыргинское время и появившимися до кудыргинцев тюрками-тугю» (Гаврилова, 1965, с. 59).
Однако и точка зрения С.В. Киселева о более ранней датировке Кудыргинского могильника (или части его), несмотря на недостаточную аргументированность, имеет право на существование. Датирующая монета была найдена в совместном погребении человека с конем и определяет время кудыргинских захоронений, совершенных по этому обряду не ранее последней четверти VI в. Подавляющее большинство из них расположено компактной группой в северной части могильника (мог. 7, 9-13, 15), и только две находятся в западной (мог. 5, 18). Именно из этих погребений в основном происходят предметы, сопоставимые с аварскими (сильно изогнутые концевые накладки лука, ажурные наконечники ремней с изображениями фантастических животных, щитовидные бляшки с шарнирным креплением, стремя с высокой профилированной пластиной). Если согласиться с мнением исследователей об этнической близости аваров с жуань-жуанями и приходе аваров в Подунавье после разгрома их тюрками-тугю в 552 г. (Кюнер, 1961, с. 325-326), то наличие аварских элементов в кудыргинском комплексе может рассматриваться как наследие прежней культуры жуань-жуаней, а сами могилы, откуда они происходят, должны датироваться временем, близким к их падению в Центральной Азии, что и подтверждается находкой медной монеты в мог. 15. Что
(38/39)
касается остальных погребений, расположенных в других частях Кудыргинского могильника («на берегу за северным холмом» и «центральной»), то они при общем сходстве предметов материального комплекса и ориентировки обладают значительной вариабильностью погребального обряда (отдельные захоронения коней, в одном случае двух, погребения человека без коня), характерной для памятников берельского типа. В этом отношении показательно, что в одной из таких могил (№ 22) был найден лук со штриховкой накладок, характерной для луков берельского типа, что А.А. Гаврилова также рассматривает как «прямое указание на столкновение кудыргинцев именно с берельскими племенами» (Гаврилова, 1965, с. 60).
Многие предметы сопроводительного инвентаря из кудыргинских могил (костяные двудырчатые псалии, однокольчатые железные удила, трёхпёрые наконечники стрел с костяными насадами-свистунками, подпружные пряжки с округлой верхней частью) продолжают берельские традиции. Поэтому можно предполагать, что часть погребений Кудыргинского могильника относится еще ко времени подчинения берельского (телеского) населения жуань-жуаням, хотя достаточных оснований для разделения их на хронологические группы в материалах самого могильника не содержится. Можно указать только на серьги с лировидной дужкой и литой подвеской-шариком, один экземпляр которых был найден в таштыкском склепе у г. Тепсей на Среднем Енисее — не позднее V в. (Грязнов, 1979, рис. 67). Новыми являются костяные и роговые обкладки и канты высоких арочных лук седел (в том числе знаменитая обкладка со сценой охоты из мог. 9), железные стремена с петельчатой и пластинчатой дужкой, многочисленные украшения — гладкие и орнаментированные бляшки поясных и сбруйных наборов, металлические пряжки, псевдопряжки, не встречавшиеся ранее в Южной Сибири. Сложный композитный характер кудыргинского комплекса •объясняется его принадлежностью к тому переломному моменту истории, когда на Горном Алтае на рубеже раннетюркского и тюркского времени столкнулись разные этнические и культурные традиции. Очевидно, это и определило его своеобразие по отношению к другим памятникам кудыргинского типа, известным на широкой территории в пределах Первого тюркского каганата.
Улуг-Хорум. После переселения тюрков-тугю на Алтай, судя по археологическим материалам, в Южной Сибири происходят сложные этнокультурные процессы, связанные в основном с дальнейшим развитием и расселением телеских племен. Их расселение было вызвано образованием раннетюркских владений на севере Центральной Азии, консолидацией теле и крушением государства жуань-жуаней. Наиболее ярко об этих процессах свидетельствует впускное захоронение в гигантском культовом сооружении Улуг-Хорум, исследованное А.Д. Гра-
(39/40)
чом в Юго-Западной Туве. По некоторым деталям (расположение коня и человека с восточной ориентировкой по одной оси, редкие по форме стремена) оно выделяется среди других погребений с конем, хотя принадлежность его именно к данному кругу памятников не вызывает сомнения (Грач В., 1982). Особенно интересны стремена — овальные, со спрямленной узкой подножкой и высокой невыделенной пластиной, покрытые орнаментом в виде вдавленных треугольников, имеющие себе ближайшие параллели в датированных памятниках IV-VI вв. Дальнего Востока (табл. II, 15). По стременам улуг-хорумское захоронение было датировано В.А. Грачом концом V — серединой VI в. Типологически близкие, а в одном случае идентичные стремена найдены при случайных обстоятельствах на Верхней Оби, в Минусинской котловине, в могильнике Кудыргэ на Алтае (IV тип по классификации А. А. Гавриловой), что является еще одним косвенным свидетельством ранней даты кудыргинского комплекса. «Что касается этнической принадлежности этого погребения, — отмечает В.А. Грач, — то его дата, относящаяся к периоду, непосредственно предшествующему образованию Первого тюркского каганата (552 г.), позволяет предполагать, что оно сооружено не тюрками-тугю, а представителями местного (телеского?) населения Тувы предтюркского времени» (Грач В., 1982, с. 163). Кроме того, улуг-хорумское захоронение убедительно доказывает оспариваемый некоторыми исследователями факт существования ранних погребений с восточной ориентировкой на территории Южной Сибири.
Глава II. Раннетюркское время
2. Владение Цигу — таштыкская культура (с. 40-47)
Цигу (или кигу) — одна из ранних фонетических транскрипций этнонима кыргыз, относящаяся, по мнению С.Е. Яхонтова, ко времени до 700 г. н.э. (Яхонтов, 1970, с. 114). Указанные в Чжоу шу координаты владения Цигу являются наиболее ранними достоверными сведениями в этногеографии народов Южной Сибири. Как уже говорилось, Н.А. Аристов первым предложил локализовать его по названиям рек Афу (Абакан) и Гянь, т.е. Кем (Енисей), там, где находилось «главное становище кыргызов» (Аристов, 1897, с. 6), правда, не указывая его точного местонахождения, но явно имея в виду долину Среднего Енисея, Минусинскую котловину. Г.Е. Грумм-Гржимайло сближал название Цигу с чиками рунических надписей, жившими в VIII в. на территории Тувы (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 311). Данная точка зрения была поддержана Л.Р. Кызласовым (Кызласов, 1969, с. 51), однако не получила дальнейшего распространения (Сердобов, 1971, с. 54-55). Большинство исследователей так или иначе придерживается интерпретации Н.А. Аристова. Наиболее определённо в этом отношении писала Л.А. Евтюхова, помещая Цигу «как раз в исконных земляхТаштыкская культура и енисейские кыргызы.
Тепсейские пластины.
Таштыкские стелы.
(40/41)
кыргызов, т.е. в Минусинской котловине» (Евтюхова, 1948, с. 4).
^ Таштыкская культура и енисейские кыргызы. В V в. достигает своего наивысшего развития таштыкская культура (тепсейский этап, по периодизации М.П. Грязнова). Исследователи неоднократно отмечали участие таштыкского населения в сложении культуры енисейских кыргызов. С.А. Теплоухов относил к V-VII вв. каменные курганы типа чаа-тас, продолжающие прежние таштыкские традиции и наиболее характерные впоследствии для кыргызов (Теплоухов, 1929, с. 50-55). С. В. Киселёвым в таштыкских материалах был выделен ряд культурных элементов (керамика, погребальная скульптура с изображением животных, конструктивные детали в устройстве погребений позднеташтыкских могильников), получивших развитие в культуре енисейских кыргызов. После IV в., считал С.В. Киселёв, «началось переоформление материальной культуры саяно-алтайских племен в новую, ставшую характерной для времени выступления алтайских тюрок и енисейских кыргызов» (Киселёв, 1951. с. 472). Об этом же писала Л.А. Евтюхова, обратившая особое внимание на общие черты таштыкских и кыргызских материалов, в частности на совершенно идентичные бронзовые накладки в виде головок лошадей и некоторые другие (Евтюхова, 1948, с. 6-9). Л.Р. Кызласов предполагает, что в таштыкское время доминирующую роль играли левобережные племена. Именно здесь, на левом берегу Енисея в Уйбатской степи «в таштыкское время был расположен и политический центр, который, возможно, продолжал сохраняться и в эпоху древнехакасского (кыргызского. — Д.С.) государства» (Кызласов, 1960). М.П. Грязнов также считает, что можно проследить некоторые аналогии таштыкской керамики тепсейского этапа с памятниками енисейских кыргызов, а знаменитая «тепсейская галерея» рисунков, о которой будет сказано ниже, «несомненно представляет собой одно из звеньев общей линии развития изобразительного повествовательного искусства азиатских народов» (Грязнов, 1971, с. 106), продолжение которого можно видеть в копёнских барельефах или Сулекской писанице, наиболее ярко представляющих искусство енисейских кыргызов. Следует отметить также находки глиняных орнаментированных сосудов типа «кыргызских ваз» в таштыкских склепах Михайловского могильника (Мартынова, 1976) и некоторые другие.
Приведённых точек зрения достаточно, чтобы считать установленной непосредственную преемственность между таштыкской культурой и культурой енисейских кыргызов, выразившуюся как в общем обряде трупосожжения, конструктивных деталях погребальных сооружений, так и в наборе целого ряда предметов сопроводительного инвентаря (керамики, украшений, вооружения и т.д.). Видимо, можно называть таштыкскую культуру (во всяком случае, на позднем этапе её развития) ранне-кыргызской, или, точнее, протокыргызской, а совпадение вре-
(41/42)
мени и места её существования позволяет идентифицировать таштыкскую культуру на тепсейском этапе развития с владением Цигу древнетюркских генеалогических преданий.
И все же таштыкская культура и культура енисейских кыргызов различны — каждая из них представляет собой самостоятельное историко-культурное явление. В очень сложной по компонентному составу таштыкской культуре до определённого времени отсутствуют те характерные элементы древнетюркского культурного комплекса, которые вводят культуру енисейских кыргызов в круг родственных культур Центральной Азии и Южной Сибири раннего средневековья. Начало их распространения может быть связано со временем образования раннетюркского владения Цигу, благодаря которому усиливается центральноазиатский компонент таштыкской культуры, выделенный С.В. Киселёвым и Л.Р. Кызласовым. В этой связи полностью сохраняют своё значение слова Л.А. Евтюховой о том, что формирование енисейских кыргызов «явилось частью более широкого этногенетического процесса сложения тюркских народностей Саяно-Алтая» и поэтому «ранняя история кыргызов должна рассматриваться не изолированно, но в связи с событиями в Центральной Азии» (Евтюхова, 1948, с. 4). Обращает на себя внимание явно социальная окраска всех восточных и центральноазиатских элементов таштыкской культуры (масштабы пирамидальных склепов, погребальные статуэтки людей и животных, церемониальные зонты и т.д.), позволяющая относить погребения, в которых они были найдены, к социально привилегированному слою населения. Очевидно, владение Цигу на Среднем Енисее явилось первым этносоциальным объединением, возникшим в результате распространения влияния зарождающейся древнетюркской государственности.
Этнографический облик населения таштыкской культуры, несмотря на полное отсутствие каких-либо свидетельств письменных источников, может быть представлен достаточно полно благодаря анализу имеющихся археологических материалов. Большая часть их собрана в монографии Л.Р. Кызласова, убедительно показавшего комплексный характер хозяйства таштыкцев, в котором сочетались полукочевое скотоводство (разведение лошадей, овец и крупного рогатого скота), земледелие (ручное и плужное с использованием искусственного орошения), охота и вьючное оленеводство в прилегающих к Минусинской котловине горно-таёжных районах (Кызласов, 1960, с. 178-186). Подобное комплексное хозяйство предусматривает разнообразные формы связанных с ним явлений материальной культуры — жилища, одежды, пищи, средств транспорта и т.д. Различные виды жилищ (типа юрты и срубные постройки) изображены на известной Боярской писанице. О широком распространении стационарных деревянных сооружений в это время говорит сложная архитектура таштыкских склепов. По материалам
(42/43)
Михайловского поселения была реконструирована ещё одна форма таштыкского жилища — в виде шестиугольных каркасных построек типа более поздних алтайских или хакасских аилов (Мартынова, 1974). Столь же разнообразны были виды таштыкских поселений, значительное число которых открыто в последнее время: постоянные поселения, городища, стоянки-летники и т.д. (Абсалямов, Мартынов, 1979).
^ Тепсейские пластины. Замечательным этнографическим источником являются деревянные пластины, или планки, с многофигурными композициями, найденные М.П. Грязновым в склепе № 1 могильника Тепсей III, с которыми связывается совершенно новый пласт в изобразительном искусстве народов Южной Сибири (Грязнов, 1971; 1979, рис. 59-61). Истоки художественного стиля тепсейских пластин, возможно, лежат в хуннском искусстве. Так, стилистически близкие изображения животных выгравированы на роговом изделии из Тарпатского могильника хуннского времени в Монголии (Свинин, Сэр-Оджав, 1975, рис. 3). Стилистически близкие рисунки имеются в петроглифах Тувы — Малый Баянкол (Дэвлет, Панова, 1975, с. 206). Среди представленных на тепсейских пластинах многочисленных сюжетов (охоты, военных столкновений, угона лошадей, верениц бегущих животных и т.д.) следует отметить следующие: изображения бычьих запряжек, свидетельствующие о развитии плужного земледелия, взнузданных и осёдланных лошадей (на некоторых из них показано тавро — знак собственности), различных типов щитов, колчанов, горитов, луков и стрел, сцену военного столкновения таштыкцев (их можно узнать по характерным причёскам с костяными булавками, они одеты в мягкие кафтаны и вооружены сложными луками) с чужеземцами, приплывшими на лодке, очевидно, с верховьев какой-то реки (в подпоясанной, видимо, глухой одежде и плоских головных уборах — из берёсты? — вооружённых короткими простыми луками).
На тепсейских пластинах изображены люди разной этнической принадлежности, носители разной культурной традиции, что полностью соответствует сложному характеру образования таштыкской культуры. Обращают на себя внимание несколько фигур рыцарей (планки 6, 7) в панцирных доспехах и шлемах. Они вооружены большими сложными луками и в отличие от других персонажей наделены некоторыми признаками европеоидности. В одном случае они изображены в сцене боя поверженными; в другом — фигура рыцаря в длиннополой одежде с высоким воротником, сплошь покрытой панцирными пластинами, показана спокойно стоящей с луком в вытянутой левой руке. Эти рыцари — не таштыкцы. Ни в одном таштыкском погребении не найдено металлических деталей пластинчатого доспеха, в то время как в Центральной Азии традиция их изготовления не прерывалась, по-видимому, с хуннского времени.
(43/44)
Ю.С. Худяков отмечает, что длиннополая защитная одежда, покрытая панцирными пластинами с высоким воротником, подобна «облачённым в панцири тохарским всадникам из Восточного Туркестана» (Худяков, 1980, с. 125). В этой связи правомерно поставить вопрос, не фиксируют ли изображения рыцарей на тепсейских пластинах первое столкновение жителей Среднего Енисея с тюрками-тугю? В дальнейшем защитные пластинчатые панцири широко использовались енисейскими кыргызами, что доказывается как многочисленными предметными находками, так и знаменитыми изображениями кыргызских всадников на горе Сулек (Худяков, 1980, с. 118-130).
^ Таштыкские стелы. С центральноазиатским влиянием связано и появление в Минусинской котловине антропоморфных каменных изваяний. В настоящее время известно всего три достоверных таштыкских стелы с изображениями людей: это Кижи-таш и Улу-Кыс-таш, открытые в 1772 г. П.С. Палласом в Могильной степи около с. Аскыз, позднее опубликованные Г.И. Спасским и И. Аспелиным и неоднократно привлекавшие внимание исследователей (Грязнов, Шнейдер, 1927, табл. VII; Грязнов, 1950, рис. 15, 16), а также каменная плита с р. Нени, найденная, по данным Л.Р. Кызласова, в пещере и сейчас находящаяся в Минусинском музее. Хотя аскизские стелы не сохранились, по имеющимся рисункам можно составить о них достаточно чёткое представление.
Композиционное оформление всех минусинских стел в принципе одинаково. Наверху помещается крупное изображение сидящей человеческой фигуры (в одном случае, по-видимому, женской) с сосудом в двух руках, что позволило М.П. Грязнову отнести их к «ранним формам каменных баб тюркского типа» (Грязнов, 1950, с. 148). В отличие от более поздних тюркских изваяний, эти изображения находятся на одной, лицевой стороне каменного блока, что, как и в Кудыргэ, соответствует указанию источника о «нарисованном облике покойного». Ниже и на боковых гранях находятся дополнительные мелкие рисунки, по тематике и расположению напоминающие оленные камни Центральной Азии — это цепочка идущих друг за другом верблюдов (возможно, среди них есть и лошади) и рогообразный изогнутый «предмет неизвестного назначения» (Улу-Кыс-таш); лук сигмовидной формы в налучье, как бы заткнутый за пояс, и отдельно изображённое ухо с серьгой (Кижи-таш); птица, лук и котловидные сосуды (Нени). По технике нанесения эти изображения, как отметил М.П. Грязнов, также напоминают оленные камни, «но там углублён рисунок, фоном которому служит гладкая возвышенная поверхность камня, в то время как на наших изваяниях, наоборот, рисунок возвышается на фоне углублённой поверхности камня» (Грязнов, 1950, с. 147). Близость композиции и техники нанесения изображений указывает на южные, центральноазиатские истоки происхождения изобра-
(44/45)
зительных приёмов и смыслового значения образов таштыкских каменных изваяний (Савинов, 1981, с. 237-242).
Минусинские стелы занимают как бы промежуточное положение между антропоморфными оленными камнями и древнетюркскими каменными изваяниями, сочетая признаки тех и других приблизительно в равной степени. Ранние признаки при этом выступают уже в несколько измененном виде (обратная, как бы «негативная» техника и др.), а поздние, напротив, ещё повествовательны и не сложились окончательно в древнетюркский изобразительный канон.
Семантика таштыкских изваяний раскрывается наиболее полно благодаря композиции на лицевой стороне стелы с р. Нени (табл. VIII, 8). Ниже крупной сидящей фигуры со сложенными «калачиком» ногами и сосудом в двух руках изображена сцена охоты пешего лучника с собакой на оленя, в спину которого вонзилась стрела. Повествовательный характер этой сцены в сочетании с канонизированным образом центрального персонажа позволяет рассматривать её как отображение посвящённых ему реальных культовых действий, аналогичных по смыслу изображениям на кудыргинском валуне. Таким же образом могут быть объяснены рисунки животных и фигурка присевшего человека на Улу-Кыс-таш, а также изображение всадника с трёхлопастным флагом на длинном древке на Кижи-таш. Назначение этих ритуальных действий раскрывается благодаря изображению птицы на боковой стороне стелы с р. Нени, которое может быть связано с представлениями древних тюрков о процессе реинкарнации душ (ср. обычную форму древнетюркских эпитафий «отлетел» в значении умер), получившим изобразительное воплощение в ряде памятников тюркского искусства — Асхетском рельефе, на короне Кюль-Тегина или каменных изваяниях Семиречья (Кызласов, 1964, с. 34-35). Скорее всего, в рассматриваемых сценах следует видеть иллюстрацию жертвоприношений, связанных с поминальным обрядом, или действий, обеспечивающих эти жертвоприношения. Возможно, что самые ранние, неизвестные пока тюркские изваяния Монголии, существовавшие там до появления рунической письменности, также представляли собой нанесенные на камень повествовательные сцены, подчинённые идее жертвоприношений, как на кудыргинском валуне или таштыкских стелах.
Условия нахождения аскизских стел неясны. П.С. Паллас обнаружил их уже лежащими на земле в непосредственной близости друг от друга, поэтому точно неизвестно, каким образом они устанавливались. Можно предполагать, что они входили в комплекс жертвенно-поминальных сооружений, хорошо известных памятников таштыкской культуры (Вадецкая, 1971; Кызласов И., 1975). Эти сооружения представляют собой неглубокие ямы (иногда с каменными ящичками внутри), около которых находятся стелы, нередко имеющие антропоморфные
(45/46)
очертания (скошенный верх, «нависание», намеренное сужение верхней части и т.д.). В ямах у основания стел с восточной стороны встречаются кости животных, в том числе кальцинированные, отдельные мелкие предметы и керамика тепсейского этапа. Чаще всего жертвенно-поминальные сооружения находятся в непосредственной близости от больших пирамидальных склепов (уйбатских, сырских, тепсейских) и несомненно связаны с ними единым циклом ритуальных действий. И.Л. Кызласов, наиболее подробно рассмотревший таштыкские жертвенно-поминальные сооружения, также находит им аналогии, с одной стороны, в более поздних памятниках (древнетюркских каменных изваяниях, стоящих в одном ряду с необработанными камнями), с другой — в рядах оленных камней и так называемых «сторожевых камней» в культуре плиточных могил Забайкалья (Кызласов И., 1975, с. 46).
Определённое отношение к подобному ритуалу имели и знаменитые таштыкские маски, типология которых была разработана С.В. Киселёвым (Киселёв, 1951, с. 450). Находки последних лет показали, что изготовление масок началось ещё на предшествующем (тесинском) этапе развития культуры Минусинской котловины, когда в этот ряд оказался включён новый вид объёмного изображения человека — «глиняные головы», типологически занимающие промежуточное место между масками и круглой скульптурой. Особый интерес среди них представляет голова из кургана №6 Шестаковского могильника в Кемеровской области (Мартынов, Мартынова, Кулемзин, 1971, с. 165-173; Мартынов, 1974). По реконструкции А.И. Мартынова, она принадлежала манекену, входившему в сложный погребальный комплекс. Посередине будущего кургана делалась площадка из обожжённой глины, окружённая земляным или дерновым валом с входом с южной стороны. «Здесь же выставлялись манекены умерших с масками и портретными скульптурными головами... Вероятно, они были поставлены в рост или посажены, если учесть, что исследованная нами голова прочно крепилась в вертикальном положении... Сверху в центре его (кургана), а может быть, и над всей площадью, возводилась крыша из берёсты» (Мартынов, 1974, с. 241-242). После использования в течение какого-то времени всё сооружение сжигалось.
Тесинские «глиняные головы» и таштыкские маски, с одной стороны, каменные стелы, в том числе и антропоморфные изваяния типа аскизских — с другой, по-видимому, представляют две разные традиции сохранения на какое-то время облика умершего для совершения определённого цикла поминальных обрядов и жертвоприношений. Эта же особенность, судя по письменным источникам, была характерна для древнетюркского погребального обряда и культуры енисейских кыргызов (Бичурин, 1950, с. 230; Кюнер, 1961, с. 60). Если первая традиция, которую
(46/47)
можно назвать местной, (самые ранние остатки глиняных масок найдены в Минусинской котловине ещё в позднесарагашенских погребениях V-IV вв. до н.э.), существовала здесь длительное время, то вторая, явно привнесенная, связана с более коротким этапом существования таштыкской культуры в период образования здесь раннетюркского владения Цигу. Позднее в культуре енисейских кыргызов изготовление каменной антропоморфной скульптуры в отличие от Монголии, Средней Азии, Горного Алтая и Тувы не получило дальнейшего развития.
Важно отметить, что в культуре енисейских кыргызов и позже сохраняется целый ряд элементов, общих с культурой орхоно-алтайских тюрков. Это — памятники рунической письменности, по праву названной орхоно-енисейской; многие черты социальной организации и терминологии; обряд трупосожжения, существовавший у правящей верхушки династии Ашина до 630 г., а у енисейских кыргызов на всем протяжении существования их культуры; определённый промежуток времени между фактом смерти и захоронением для совершения жертвенно-поминальных обрядов; использование в погребальном ритуале изображений различных животных: в Центральной Азии каменных изваяний львов, стоящих у поминальных комплексов тюркских каганов, в Южной Сибири, на Енисее — преимущественно изображений баранов как в виде наземной скульптуры, так и предметов мелкой пластики, находящихся непосредственно в погребениях и продолжающих прежнюю таштыкскую традицию. Однако в Минусинской котловине известны и два «каменных изваяния в виде маленьких львов» (Грязнов, Шнейдер, 1927, с. 85), близкие древнетюркским.
Приведённые параллели достаточно многочисленны и вряд ли могут объясняться только культурными заимствованиями между древними тюрками и енисейскими кыргызами в период существования созданных ими государственных объединений во второй половине I тыс. н. э. Очевидно, существовала и общая субстратная основа раннекыргызской и раннетюркской культур, закреплённая в древнетюркских генеалогических преданиях идеей родственности между представителями правящей династии Ашина и одним из братьев легендарного Нодулу-шада, основавшим на далёком Енисее раннекыргызское владение Цигу.
Глава III. Тюркское время 1. Тугю и теле. Курайская культура (с. 48-76)
С середины VI в. на территории Центральной Азии и Южной Сибири складываются две основные этнокультурные группировки — тюрков-тугю, создавших Первый тюркский каганат, и подчинённых им в социальном отношении — теле, силами которых тюрки «геройствовали в пустынях севера» (Бичурин, 1950, с. 301).
Первый тюркский каганат. Меньше чем за два десятилетия тюрки Первого каганата создали огромную державу, границы которой простирались от Хуанхэ до Волги. В её состав наряду с другими вошли районы Южной Сибири, Средней Азии и Казахстана. В связи с ранней историей Первого тюркского каганата в источниках последний раз упоминается название владения Цигу, которое, очевидно, к этому времени обособилось от древнетюркской социальной иерархии. Мухан-каган (553-557 гг.) «на севере покорил Цигу и привел в трепет все владения, лежащие за границей» (Бичурин, 1950, с. 229). В 568 г. каган Истеми подарил византийскому послу Земарху «пленницу из народа кыргыз» (Гумилёв, 1967, с. 53). Имеются основания предполагать, что сын Мухан-кагана Далобянь (Апа-каган) «имел ставку на севере, может быть, в земле кыргызов и чиков» (Гумилёв, 1967, с. 58). В свете этих сведений распространение тюрков-тугю во второй половине VI в. не только в восточном и западном, но и северном направлении не вызывает сомнения.
Естественно, удержать столь огромную, населённую различными племенами и народами территорию в рамках одной социально-административной системы было невозможно, и в 604 г. Первый тюркский каганат разделился на Западный и Восточный. В 630 г. последний тюркский каган Восточного каганата Хьели был взят в плен (умер в 634 г.), и каганат прекратил своё существование. В том же 630 г. Чеби-хан, один из удель-
(48/49)
ных князей Восточного каганата вместе со своим народом («30 тыс. строевого войска») «ушёл на северную сторону Золотых гор» (Бичурин, 1950, с. 263), т.е. на Алтай, и объявил себя ханом. После этого Чеби-хан покорил Гэлолу (карлуков на Западном Алтае) и Гйегу (кыргызов на Енисее). В 635 г. Западный каганат разделился на два племенных союза — дулу и нушиби. В 641 г. Дулу-хан совершил поход против племён, не вошедших в состав дулу и нушиби, среди которых, как уже говорилось, упоминаются цзюйше (видимо, кыпчаки на Верхней Оби) и гэгу (енисейские кыргызы). В 650 г. Чеби-хан был разбит, взят в плен, а часть его народа переселена в Утукенскую чернь (Хангай), где позднее приняла участие в создании Второго тюркского каганата. В 656 г. пал и Западнотюркский каганат. Таким образом, время археологических памятников, синхронных периоду существования Первого тюркского каганата, может быть определено серединой VI — серединой VII в.
Племена теле занимали обширную территорию от Хангая до Тянь-Шаня. В источниках называется большое число телеских племен: хойху (уйгуры), сеяньто, доланьгэ, байегу, хун (хунь), тубо (дубо), гулигань (тюрк., курыкан) и др. Несмотря на некоторое расхождение между исследователями в вопросах локализации того или иного этнонима, очевидно, что телеские племена расселялись в основном на территории Монголии, часть их продвинулась в сторону Джунгарии (киби), а отдельные племена обитали около Байкала и Косогола (гулигань, дубо).
Из всех приведенных этнонимов на территории Южной Сибири могут быть локализованы только дубо, жившие, очевидно, в восточной части Тувы до оз. Косогол. Какие из других известных телеских племён находились на территории Горного Алтая и степной части Тувы — неясно. По сведениям рунических памятников VIII в., в Центральной и Северной Туве по Енисею (Улуг-Хему) и Хемчику жили чики. Западнее них располагались азы, причем упоминание «степных азов», как считает Н.А. Сердобов, позволяет предполагать наличие и группы «лесных азов» (Сердобов, 1971, с. 49), расселявшихся, возможно, в соседних внутренних районах Горного Алтая, где на западе они граничили с карлуками. К сожалению, трудно сказать, входили ли племена, известные в рунических текстах как чики и азы, в состав этнической общности теле танских хроник, хотя это и представляется наиболее вероятным. Важным свидетельством в пользу такого предположения может служить наличие этнонима теле в названиях ряда современных групп алтайцев (теленгиты, телеуты, телесы) и тувинцев (телек), генетическое родство которых с раннесредневековой общностью теле доказано в работах Л.П. Потапова. Ещё четыре столетня тому назад их предки, отмечает Л.П. Потапов, «кочевали по территории Сибири не только в Южной, особенно горной части в Саяно-Алтайском нагорье, но и в лесостепях и степях между-
(49/50)
речья Оби и Иртыша» (Потапов, 1969, с. 147). Л.Р. Кызласов также считает, что чики входили в состав телеских (гаогюйских) племён н были родственны карлукам Западного Алтая (Кызласов, 1969, с. 51). Известно, что в 487 г. телеский вождь Афучжило откочевал на запад, и с этого времени группа теле появляется в бассейне Иртыша.
Племена теле постоянно стремились к выходу из системы протектората и созданию собственной государственности. Ещё на заре тюркской истории, в конце V в. ими было создано ханство Гаогюй («Высокие телеги»), в 516 г. разбитое жуань-жуанями. Второй попыткой телесцев освободиться от власти жуань-жуаней, как уже говорилось, воспользовались тюрки-тугю, создавшие с их помощью Первый тюркский каганат. С этого времени любое ослабление тюрков-тугю вызывало ответное выступление теле, создававших недолговременные и непрочные этносоциальные объединения. Так, в 605 г. возникло Джунгарское телеское царство, во главе которого стояли сеяньто. Оно просуществовало немногим более десяти лет и было разбито западными тюрками. Еще до гибели Первого тюркского каганата многие телеские племена отделились от него и создали в 628 г. каганат Сеяньто, или государство токуз-огузов («девять племен»), названное так по числу входивших в него этнических подразделений. Оно просуществовало до 646 г., когда главную роль в конфедерации теле стали играть уйгуры, начавшие последовательную борьбу за создание своего государства.
Вопросы этнографии тугю и теле. Этнографический облик тюрков-тугю описан в письменных источниках кратко, но достаточно выразительно: «обычаи тукюесцев: распускают волосы, левую полу наверху носят; живут в палатках и войлочных юртах, переходят все с места на место, смотря по достатку в траве и воде; занимаются скотоводством и звериною ловлею; питаются мясом, пьют кумыс; носят меховое и шерстяное одеяние... Обыкновения их вообще сходны с хуннскими» (Бичурин, 1950, с. 229). Анализ элементов материальной культуры орхоно-алтайских тюрков-тугю, в частности верхней распашной одежды (халата) и головных уборов (типа башлыка), сохранившихся в изображениях древних тюрков и на древнетюркских каменных изваяниях (Евтюхова, 1952, с. 102-105; Грач, 1961, с. 59-66), подтверждает скотоводческую основу их хозяйства. Подвижной формой быта объясняется полное отсутствие до настоящего времени каких-либо остатков древнетюркских поселений в Монголии, Туве и на Горном Алтае. Что касается обряда погребения с конём, судя по сведениям письменных источников, известного и тюркам-тугю, то, скорее всего, его следует рассматривать не как основной индикатор хозяйственной деятельности древних тюрков (сопроводительные захоронения коней известны и в чуждых скотоводческому укладу обществах, например, у древних славян и литовцев), а как отражение веду-
(50/51)
щей формы транспортных средств и определённых идеологических представлений.
В этом отношении следует отметить не только погребения с бараном, но и с верблюдом, открытые на могильнике Аймырлыг в Центральной Туве (Овчинникова, 1974, с. 214).
Особенности хозяйства телеских племён Монголии (уйгуров, доланьгэ, сеяньто и др.) были, очевидно, близки древнетюркским; у некоторых из них (уйгуры и курыканы) существовало специализированное коневодство. Байегу (байырку) наряду со скотоводством занимались горно-таёжной охотой на диких оленей (Бичурин, 1950, с. 344). Данный хозяйственно-культурный тип был определён Л.П. Потаповым как «горные кочевники скотоводы-охотники Алтае-Саянско-Хангайского нагорья» (Потапов, 1969а, с. 89). Впоследствии этот тип становится ведущим для так называемых «лесных народов» Северной Монголии н Прибайкалья предмонгольского времени. Дубо жили в условиях присваивающей экономики, «ни скотоводства, ни землепашества не имели. У них много сараны: собирали её коренья и приготовляли из них кашу. Ловили рыбу, птиц, зверей и употребляли в пищу. Одевались в соболье и оленье платье, а бедные делали одежду из птичьих перьев» (Бичурин, 1950, с. 348), Столь же разнообразны были и погребальные обряды телеских племён. О теле вообще известно, что в отличие от тюрков-тугю они не сжигали своих покойников, а хоронили их в земле (Позднеев, 1899, с. 41). Уйгуры «мёртвых относят в выкопанную могилу, ставят труп на середине с натянутым луком в руках, опоясанный мечом, с копьем под мышкой, как будто живой, но могилу не засыпают» (Бичурин, 1950, с. 216). У дубо существовала наземная и воздушная форма захоронения — «покойников полагали в гробы и ставили в горах или привязывали на деревьях» (Бичурин, 1950, с. 348). У курыкан, как и у кыргызов, судя по археологическим материалам, был распространён обряд трупосожжения под юртообразными каменными сооружениями (Асеев, 1980, с. 13-48). Часть скотоводов теле, очевидно, придерживалась традиционного для территории Саяно-Алтая обряда погребения с конём.
Археологические материалы тюркского времени вообще и VI-VII вв. в частности представлены в Южной Сибири тремя основными видами памятников, образующих своеобразную «тюркскую триаду»: погребения с конём и соответствующим набором предметов сопроводительного инвентаря, поминальные сооружения и изваяния, схематические изображения горных козлов типа Чуруктуг-Кырлан.
Периодизация древнетюркских погребений с конём. Погребения с конём на Горном Алтае первоначально были определены Л. А. Евтюховой и С.В. Киселёвым как «памятники эпохи рунического письма» (Евтюхова, Киселёв, 1941), а затем датированы VI-VIII вв., причем С.В. Киселёв отмечал, что «среди
(51/52)
этих же курганов выделяются по специфическим формам удил и украшений, а также монетным находкам наиболее поздние курганы IX-X вв.» (Киселёв, 1951, с. 493, 552 и сл.). Открытые им в Минусинской котловине погребения с конём в каменных кольцах у с. Усть-Тесь и с. Кривинского С.В. Киселёв датировал VI-VII вв. (Киселёв, 1929, с. 156). После находки монеты «Кайюань тунбао», аналогичной найденным в бесспорно позднем Тюхтятском кладе IX-X вв., в кургане 19 могильника Капчалы II (Левашова, 1952, с. 134-135), Л.А. Евтюхова все трупоположения с конём в Минусинской котловине (Усть-Тесь, Капчалы II, Таштык, Уйбат II и др.) датировала IX в. и предположила смену погребального обряда у енисейских кыргызов (Евтюхова, 1948, с. 60-67). Как выяснилось впоследствии, монеты «Кайюань тунбао» имели достаточно широкий период обращения (621-907 гг.), и поэтому их находки в погребениях не могут служить опорным датирующим признаком (Воробьёв, 1963).
Работа по датировке алтайских курганов была продолжена А.А. Гавриловой на материалах могильника Кудыргэ. Главный принцип её исследования — «разработка относительной хронологии памятников с малым количеством датирующих находок — необходимое условие и для определения хронологии абсолютной» (Гаврилова, 1965, с. 79) — позволил детально рассмотреть развитие основных форм предметов сопроводительного инвентаря и сгруппировать могилы, где они были найдены, в определённые типы: кудыргинский — VI-VII вв. (куда вошли и минусинские погребения с конём), катандинский — VII-VIII вв., сросткинский — VIII-X вв. н наиболее поздний — часовенногорский — XIII-XIV вв. При этом А.А. Гаврилова вернулась к ранней датировке Усть-Тесинских погребений, включив их в число памятников кудыргинского типа. Высоко оценивая работу А.А. Гавриловой по систематизации раннесредневековых памятников Саяно-Алтайского нагорья, можно вместе с тем отметить, что построенная ею на базе эволюционного метода классификация типов могил, различающихся по погребальному обряду и особенностям оформления предметов сопроводительного инвентаря, имеет в основном хронологическое значение и лишена конкретного культурно-исторического содержания.
В 60-х годах основные исследования памятников древнетюркского времени были проведены в Туве. Серия погребений с конём была раскопана А.Д. Грачом в Юго-Западной Туве, в том числе курганы-кенотафы (Грач, 1960, с. 40-48; 1960а, с. 129-143) н так называемое «погребение с зеркалом Цинь-Вана» (Грач, 1958; 1960, с. 18-31), которое автор датировал по надписи на серебряном зеркале VII в. (до 627 г.). По периодизации А.Д. Грача, к VII-VIII вв. относятся погребения с восточной ориентировкой, к VIII-IX вв. — с северной ориентировкой, а к IX-X вв. — одиночные захоронения с ориенти-
(52/53)
ровкой на север или северо-запад (Грач, 1961, с. 91; 1960а, с. 147-148 н др.). В работах Л.Р. Кызласова принята иная хронология тувинских погребений: могилы с северной ориентировкой рассматриваются как более ранние (VI-VII вв.), с восточной — как более поздние (VIII-IX вв.), а курганы-кенотафы относятся к IX-X вв. Хотя А.А. Гаврилова и правильно отмечала, что «спорный вопрос, считать ли северную ориентировку более ранней (Кызласов) или более поздней (Грач), на имеющемся материале не решается: и в более ранний, и в более поздний периоды представлена северная ориентировка наряду с восточной» (Гаврилова, 1965, с. 65), открытие улуг-хорумского захоронения позволяет считать восточную ориентировку для тюркских погребений VI-VII вв. предпочтительной. Одновременно с А.А. Гавриловой близкую по структуре периодизацию тувинских погребений с конём предложил на материалах могильника Кокэль С.И. Вайнштейн, разделивший их на ряд последовательных этапов: ишкинский (VI-VII вв.), ак-туругский (VII-VIII вв.) и карачогинский (VIII — первая половина X вв.) (Вайнштейн, 1966; 1966а, с. 329-330). Периодизация С.И. Вайнштейна отличается от всех предшествующих тем безусловным преимуществом, что в ней впервые использованы датирующие материалы их ляоских гробниц в провинции Жэхэ (960-961 гг.). Они позволили уточнить датировку кургана Кара-Чога 4 с северной ориентировкой — IX-X вв.
Среди более поздних работ следует отметить интересный общий обзор памятников тюркского времени в Южной Сибири В.А. Могильникова, основанный (с незначительными коррективами) на периодизации А.А. Гавриловой (Могильников, 1981, с. 29-43). Остальные исследователи придерживаются в основном более общих датировок в пределах I тыс. н.э.
Уже из этого краткого обзора следует, что единого взгляда по вопросу хронологии древнетюркских погребений с конём нет, поэтому обращение к ним как к историческому источнику требует в первую очередь определения коррелирующих признаков, по которым они могут быть объединены в группы могил, относящихся к тому или иному хронологическому периоду. В качестве таких признаков на современном этапе изучения могут быть названы ориентировка погребённых, типовой набор предметов сопроводительного инвентаря, наличие или отсутствие тех или иных элементов, характерных для смежных этапов развития древнетюркского историко-культурного комплекса.
Погребения с конём VI-VII вв. Погребения с конём, которые могут быть отнесены к VI-VII вв., известны во многих районах Первого тюркского каганата — в Южной Сибири (на Алтае, в Туве и Минусинской котловине), в Средней Азии и Казахстане. На Горном Алтае этим временем датируется часть погребений Кудыргинского могильника, в одном из которых (мог. 15), как уже говорилось, была найдена монета 575-
(53/54)
577 гг. К кудыргинскому типу могил на Алтае А.А. Гаврилова относит также погребения Катанда II, кург. 1; Курота I, кург. 1; Туэкта, кург. 7, «отличающиеся от кудыргинских широтным расположением могил и некоторыми вещами» (Гаврилова, 1965, с. 58). Восточная ориентировка сближает их с погребениями предшествующего, берельского типа.
В Туве к VI-VII вв. относятся погребения с восточной ориентировкой и сопроводительным захоронением барана в МТ-57-XXVII (Грач, 1960, с. 33-36) и в кургане 2 на могильнике Аргалыкты VIII (Трифонов, 1971, рис. 5), возможно, генетически связанные с алтайскими.
Появление погребений с конём в Минусинской котловине может быть связано с завоеванием Цигу Мухан-каганом в середине VI в. и проникновением какой-то группы алтайского населения на Средний Енисей. Это захоронения с северной или западной ориентировкой (с отклонениями на юг) под каменными кольцами, раскопанные С.В. Киселёвым у с. Усть-Тесь и с. Кривинского (Киселёв, 1929, с. 144-149). Что касается других погребений с конём в Минусинской котловине, отнесённых А.А. Гавриловой к кудыргинскому типу могил (Капчалы II, кург. 1, 8, 12, 19; Уйбат II, кург. 1), то принадлежность их VI-VII вв. вызывает сомнение. Могильник Капчалы II, за исключением кург. 4, 5 с остатками трупосожжений, представляет собой достаточно монолитный комплекс, который по поздним типам вещей может датироваться VII-VIII вв. и вплоть до IX в. (Левашова, 1952, рис. 5). В кург. 1 могильника Уйбат II найдены плоские ромбические наконечники стрел (Евтюхова, 1948, с. 61—62), которые появляются в Южной Сибири не ранее IX в.
За пределами Саяно-Алтая одиночные погребения с конём VI-VII вв. встречаются на Тянь-Шане, в Киргизии — Аламышик, кург. 69 (Бернштам, 1952, с. 81-84), Таш-Тюбе, кург. 1 (Кибиров, 1957, с. 86—88), в Казахстане — Егиз-Койтас, кург. 3 (Кадырбаев, 1959, с. 183—189) и в г. Алма-Ате (Курманкулов, 1980); в Узбекистане — захоронение с конём около обсерватории Улугбека в Самарканде (Спришевский, 1951). Широтная ориентировка этих погребений, отмечает В.А. Могильников, сближает их «с погребениями Алтая с восточной ориентировкой» (Могильников, 1981, с. 33).
Обращает на себя внимание, что перечисленные захоронения с конём VI-VII вв., как и некоторые другие аналогичные погребения, разбросаны по разным районам Южной Сибири, Средней Азии и Казахстана, не образуя какой-либо компактной культурной общности, однако одновременность их существования достаточно определённо доказывается комплексом предметов сопроводительного инвентаря. В него входят длинные концевые накладки луков, близкие берельскому типу, — табл. II, 5 (Монгун-Тайга, Усть-Тесь, Аламышик, Алма-Ата),
(54/55)
стремена с петельчатой дужкой — табл. II, 10 (Аргалыкты VIII, Усть-Тесь), фигурные поясные бляшки — табл. II, 2, 4 (Кудыргэ, Таш-Тюбе), однокольчатые удила (повсеместно), костяные подпружные пряжки с округлой верхней частью — табл. II, 16, предметы для развязывания узлов, блоки от чумбуров — табл. II, 11-13 и т.д. Следует отметить (и это тоже хронологический признак) полное отсутствие в погребениях VI-VII вв. поясных блях-оправ, наиболее характерных для памятников последующего времени.
Такое сходство предметов сопроводительного инвентаря в территориально разобщённых памятниках, скорее всего, может объясняться сравнительно быстрым распространением какой-то группы населения, обладающей устойчивой культурной традицией. Так как большинство названных предметов, да и сам обряд захоронения с конём с широтной ориентировкой, были известны на Алтае еще в IV-V вв. и в раннетюркское время, имеются все основания помещать место исхода этого населения на территории Алтая, а причину его широкого распространения связывать с образованием Первого тюркского каганата.
Этническая принадлежность погребений с конём. По вопросу об этнической принадлежности погребений с конём в настоящее время определились три основные точки зрения: 1) погребения с конём по всей территории их распространения принадлежат тюркам-тугю и являются наиболее характерным видом археологических памятников в пределах созданных ими государственных объединений (Теплоухов, Потапов, Кызласов, Вайнштейн, Грач, Шер, Худяков, Нестеров); 2) погребения с конём относятся не к тюркам-тугю, а к другим тюркоязычным племенам, в первую очередь телеским, входившим в состав древнетюркских каганатов (Гаврилова, Гумилёв, Савинов, Трифонов) ; 3) в разных районах погребения с конём имеют разную этническую принадлежность — в Монголии они оставлены древними тюрками, на Алтае — племенами теле, в Минусинской котловине — енисейскими кыргызами (Киселёв, Евтюхова). Критическому анализу этих точек зрения посвящены специальные работы Ю.И. Трифонова (Трифонов, 1973) и С.П. Нестерова (Нестеров, 1980). Не повторяя всех аргументов существующих точек зрения, остановимся на главном из них — смене погребального обряда у тюрков-тугю, зафиксированной письменными источниками в первой половине VII в.
Известно, что в 628 г. император Тайцзун обвинил тюрков в нарушении традиции — в том, что они вопреки обычаям предков перестали сжигать своих покойников, а стали хоронить их в земле, что явилось, по его мнению, одной из причин гибели Первого тюркского каганата (Лю Мау-цай, 1958, с. 203). Эти сведения рассматриваются сторонниками первой из приведённых точек зрения как бесспорное свидетельство смены
(55/56)
погребального обряда у. древних тюрков, перешедших в середине VII в. от обряда трупосожжения к обряду трупоположения. Однако известно, что в 634 г. последний каган Первого каганата Хьели и в 639 г. его племянник Хэлоху были «по кочевому обычаю сожжены» (Бичурин, 1950, с. 256) — факт чрезвычайно важный для понимания всей последующей этнокультурной истории древнетюркской эпохи. Если тюрки-тугю сменили обряд погребения в 30-х годах VII в., а сожжения Хьели и его племянника явились последними захоронениями подобного рода, то вся масса погребений с конём с этого времени от Тянь-Шаня до Монголии должна иметь тюркскую принадлежность (в узком, этническом значении этого термина). Если же тюрки Ашина продолжали сжигать своих покойников и после 630 г., о чём свидетельствует опять же способ захоронения Хьели, то погребения с конём могут быть связаны с другими этническими группами, в первую очередь с местными племенами, входившими в конфедерацию теле.
При рассмотрении данного вопроса, ещё далекого от окончательного разрешения, необходимо иметь в виду несколько обстоятельств. Обряд погребения с конём существовал на Горном Алтае в среде пазырыкцев-юечжей задолго до появления древних тюрков. Традиция погребений с конём продолжала развиваться здесь и в первой половине I тыс. н.э. (памятники берельского типа). В V-VI вв., судя по улуг-хорумскому захоронению, аналогичные памятники появляются на территории Тувы. Таким образом, говорить о тюркской принадлежности подобных погребений на территории Южной Сибири до образования Первого каганата нет никаких оснований. Однако, если следовать сведениям письменных источников, тюркам-тугю также был известен обычай сопроводительного захоронения коня, только в виде сожжения. Возможно, на каком-то этапе обе формы захоронения — тюркская (сожжение с конём) и телеская (трупоположение с конём) — сосуществовали. Смена обряда у тюрков-тугю в 30-х годах VI в. не могла произойти внезапно. Очевидно, это был достаточно длительный процесс, своего рода варваризация тюркского населения на окраинах государства при сохранении обычая трупосожжения в элите этого общества. Варваризация, очевидно, коснулась только способа погребения человека (трупосожжение — трупоположение), но не другой особенности — обязательного в том и другом случае сопроводительного захоронения коня. Учитывая данные обстоятельства, представляется оправданным рассматривать смену обряда древними тюрками не столько как забвение обычаев предков, сколько свидетельство процессов этнической ассимиляции, затронувших главным образом рядовое тюркское население, хотя в численном отношении количество тюрков-тугю, перенявших обряд трупоположения, вряд ли было значительным. В свою очередь, телеские племена начали за-
(56/57)
имствовать у тюрков ритуал установки каменных изваяний с оградками и рядами камней-балбалов, многие элементы которого имели глубокие местные традиции. Все это свидетельствует о том, что к середине VII в. на территории Южной Сибири начинает складываться сложная этнокультурная общность, которая (учитывая значение её основных компонентов) может быть названа в широком, этнокультурном значении термина — алтае-телескими тюрками.
Древнетюркские каменные изваяния VI-VII вв. Хронология каменных изваяний периода Первого тюркского каганата из-за отсутствия на них выразительных реалий представляет значительную трудность, хотя, несомненно, традиция их изготовления в Южной Сибири не прерывалась начиная с раннетюркского времени. Поэтому обычно данному виду археологических памятников дают широкие, нерасчленённые датировки. Так, С.В. Киселёв датировал все алтайские изваяния VI-VIII вв. (Киселёв, 1951, с. 545-546), Л.А. Евтюхова отнесла большую серию изваяний Южной Сибири и Монголии к VII-IX вв. (Евтюхова, 1952, с. 115), но при этом выделила среди них серию сидящих фигур из сложных мемориальных комплексов, аналогичную по значению памятникам тюркских каганов на Орхоне — VII-VIII вв. (Евтюхова, 1952, с. 116-118). По мнению Л.Р. Кызласова и А.Д. Грача, тувинские изваяния делятся на две группы: 1) фигуры воинов с оружием в одной руке и сосудом в другой (или их упрощённые варианты), стоящие с восточной стороны прямоугольных оградок во главе цепочки камней-балбалов и относящиеся: по Л.Р. Кызласову — к VI-VIII вв., по А.Д. Грачу — к VII-VIII вв.; 2) фигуры без оружия с сосудом в двух руках, не сопровождающиеся оградками и камнями-балбалами — так называемая «уйгурская группа» VIII-IX вв. (Кызласов, 1969, с. 23-32; Грач, 1961, с. 90-91). Хронология семиреченских изваяний была определена Я.А. Шером в пределах VI-XI вв. Им же предпринята первая попытка выделить среди них памятники VI-VII вв., основываясь на типологии изображений рубящего оружия: прямого меча с длинной рукоятью — VI в. и сабли с петлевидным навершием, аналогичной Перещепинскому кладу и аварским древностям Подунавья — VII в. (Шер, 1966, с. 38-46). Позднее В.А. Могильников соотнёс некоторые южносибирские изваяния по типам изображённых на них поясных наборов с определёнными периодами древнетюркской истории: конец VI-VII, конец VII-VIII, конец VIII-IX, IX-X вв. (Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981, рис. 23).
Методика датировки каменных изваяний по реалиям, т.е. изображённым на них предметам, разработанная Л.А. Евтюховой, принята большинством советских исследователей. Однако, как справедливо отметил Я.А. Шер, «степень её совершенства и точности весьма относительна, поскольку время самих
(57/58)
предметов далеко не всегда определяется надёжно» (Шер, 1966, с. 40). Датировка каменных изваяний VI-VII вв. может базироваться на различных основаниях: 1) наличие или отсутствие на них каких-либо реалий, время существования которых известно по археологическим материалам; 2) иконография изваяний и наличие дополнительных повествовательных сцен; 3) анализ письменных источников.
На каменных изваяниях Семиречья, отнесённых Я.А. Шером и вслед за ним В.А. Могильниковым к периоду Первого тюркского каганата, изображены предметы рубящего оружия VI-VII вв., но нет изображений поясных наборов с бляхами-оправами, которые не встречаются и в погребениях этого времени. В Южной Сибири к ним близки некоторые изваяния из Тувы, в частности на р. Чадаан с изображением прямого двулезвийного меча и поясом без дополнительных украшений (Кызласов, 1969, рис. 3).
В свете бесспорно ранней хронологии кудыргинского валуна и таштыкских стел к VI-VII вв. могут быть отнесены также изваяния со сценами повествовательного характера, продолжающие традицию памятников раннетюркского времени. В Туве известно несколько таких изваяний. Так, на стеле из Мугур-Саргола, находившейся в кольцевой выкладке, в верхней части изображена обычная для древнетюркской иконографии личина, а ниже в вертикальном направлении друг за другом расположены фигуры трёх лошадей, выполненных ещё в таштыкской манере. Передняя лошадь связана с личиной узкой протёртой линией (повод?). Поверх всей композиции выбито древнетюркское тамгообразное изображение горного козла (Длужневская, 1979, с. 221). На изваянии — блоке с р. Хендерге тюркский воин держит в согнутых руках на уровне пояса отрубленные человеческие головы, что можно рассматривать как отражение прежнего культа головы убитого врага, характерного для скифского и хуннского времени (Кызласов, 1969, рис. 2). На изваянии из Мунгу-Хаирхан-Ула, по-видимому, наиболее позднем в этой серии, в нижней части камня изображены участвующие в сцене поминок маленькие фигурки двух человек (Грач, 1961, с. 21-22). Очевидно, на этих изваяниях наряду с главным персонажем представлены сцены посвящённых ему обрядовых действий. Показательно, что на них, за исключением последнего, нет изображений поясных наборов и каких-либо других реалий, характерных для более позднего времени.
Большое значение для понимания особенностей ранней группы древнетюркских каменных изваяний имеют сведения династийных хроник времени Первого тюркского каганата, известных в переводах Лю Мау-цая и Р.Ф. Итса. Так, в Чжоу шу говорится, что «по окончании похорон на могиле ставится каменный знак, другие камни много или мало (ставятся) в зависимости от количества убитых людей (покойником) при жиз-
(58/59)
ни»; или: «когда один из них умирает, труп ставится на возвышении в юрте... после похорон они накладывали камни и устанавливали при этом (памятный) столб; число камней (поставленных прямо) определялось каждый раз по количеству людей, которых умерший убил при жизни». По сведениям Суй шу, «у могилы из дерева ставят дом. Внутри него рисуют облик покойного, а также военные подвиги, совершённые им при жизни. Обыкновенно, если он убил одного человека, ставят один камень и так до сотни и тысячи»; или: «Затем они погребают пепел и устанавливают на могилу деревянный столб в качестве памятного знака. На могиле они сооружают помещение, в котором рисуют облик покойника и сцены битв, в которых умерший принимал участие до своей смерти. Если он некогда убил одного человека, тогда один камень ставят [перед могилой]. Число камней достигает иногда до ста или тысячи» (Лю Мау-цай, 1958, с. 9, 42; Итс, 1958а, с. 102).
В приведенных текстах можно выделить общие черты погребального обряда тюрков-тугю — наличие какой-то культовой постройки и стоящих около неё вертикально вкопанных камней по числу убитых врагов. Что касается самого покойного, то его присутствие обозначается по разному: «труп на возвышении в юрте», «каменный знак», «нарисованный облик покойного» и т.д. Эти различия могли бы объясняться особенностями перевода, если бы не некоторые археологические параллели. Так, труп, который ставится, «на возвышении в юрте», напоминает манекены с «глиняными головами» Шестаковского могильника и связанный с ними в последующем ритуал изготовления таштыкских глиняных масок. Можно предполагать, что и под несколько фантастическим на первый взгляд описанием погребального обряда уйгуров, о котором говорилось выше, имеется в виду такой же обычай сохранения тела умершего, только не на специальной площадке, а на месте будущего захоронения. Участие покойного в цикле погребально-поминальных обрядов в дальнейшем символизировалось его изображением в виде «каменного знака», «нарисованного облика» и, наконец, каменного изваяния. Таким образом, сравнительно небольшое количество известных каменных изваяний периода Первого тюркского каганата может объясняться тем, что в это время ещё продолжала существовать традиция использования в ритуальных целях трупа умершего, а не его скульптурного изображения.
В это же время в элите древнетюркского общества существовала традиции воздвигать сложные мемориальные сооружения, которые типологически предшествовали знаменитым памятникам тюркских каганов периода Второго каганата VII-VIII вв. на р. Орхоне. Один такой бесспорно ранний памятник известен на р. Толе (Унгетский комплекс). Здесь на ограниченной валом и рвом глиняной площадке размером 20x40 м находился ящик-саркофаг с ромбическими узорами на стенках. Вокруг пего бы-
(59/60)
ли обнаружены основания 14 столбов от постройки каркасного типа и 30 антропоморфных изваяний, целых или в обломках. К юго-востоку от основного сооружения тянулся ряд камней-балбалов протяженностью 2,2 км. Авторы раскопок отмечают своеобразие унгетских изваяний: «Изображения лиц высекались в верхней части каменных столбов на широких или узких плоскостях. Голова сильно вытянута кверху. Глаза и нос очерчены одной углублённой линией, усов нет; отсутствуют также наборные пояса, чаши, оружие и другие аксессуары, обычно изображаемые на тюркских и половецких изваяниях» (Войтов, Волков, Кореневский, Новгородова, 1977, с. 587-588).
Рассмотренные памятники относятся к разному времени и, естественно, по внешнему оформлению могут отличаться друг от друга. Однако по своему внутреннему содержанию они идентичны, поскольку отражают одну идею — сохранить облик умершего для совершения определённого цикла поминальных обрядов и жертвоприношений в период между смертью и захоронением. Данная идея имеет южное происхождение и в прошлом была широко распространена у многих народов Восточной и Центральной Азии (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 46-47). Тот же обычай у древних тюрков и енисейских кыргызов зафиксирован письменными источниками (Бичурин, 1950, с. 230; Кюнер, 1961, с. 60). Многочисленные этнографические параллели обычаю сохранения облика умершего у народов Южной Сибири и Средней Азии в недавнем прошлом приводятся в работах Л.Р. Кызласова (Кызласов, 1964, с. 38-39) и других исследователей.
Второй тюркский каганат. В 679 г. после гибели каганата Сеяньто среди оставшихся в Хангае группы тюрков-тугю вспыхнуло восстание, в результате которого был создан Второй каганат. Его границы значительно уступали границам Первого, и основные военные действия были направлены против местных племён Монголии и Южной Сибири — уйгуров, киданей, карлуков, басмалов, байырку, енисейских кыргызов и др. Главными противниками тюрков-тугю были уйгуры и енисейские кыргызы. Возникновение Второго каганата ознаменовалось тем, что в 688 г. тюрки разбили уйгуров (токуз-огузов) и выбили имя их предводителя Баз-кагана на одном из балбалов памятника Ильтерес-кагана (Малов, 1951, с. 38), а в 742 г. под ударами уйгуров и союзных с ними басмалов и карлуков Второй тюркский каганат пал и более не возродился. Власть перешла к уйгурам, создавшим в 745 г. Уйгурский каганат во главе с династией Иологэ (Яглакар).
Среди многочисленных походов, предпринятых каганами Второго каганата, особого внимания заслуживает поход 711 г. против енисейских кыргызов под предводительством крупнейших деятелей Второго каганата Кюль-Тегина, Могиляня (Бильге-кагана) и Тоньюкука. Этому походу предшествовал захват в 709 г. территории Тувы, где жили чики и азы, войско которых
(60/61)
было разбито при Орпене (современный Урбюн) (Сердобов, 1971, с. 50-51). Затем в зимних условиях, «проложив дорогу через снег глубиною в копьё и поднявшись на Кöгменскую чернь (Западные Саяны. — Д.С.)», тюрки разбили кыргызов, оставили здесь своего наместника и, очевидно, военный гарнизон. После этого, «поднявшись в Алтунскую чернь (Алтай. — Д.С.)», тюрки дошли до Иртыша, переправились через него и разбили тюргешей. Военные события 709-711 гг. имеют для нашего исследования особое значение, так как они проходили непосредственно на территории Южной Сибири — в Туве, на Алтае, Среднем Енисее. Возможно, в числе раскопанных здесь погребений начала VIII в. есть захоронения воинов Кюль-тегина и Могиляна, мемориальные комплексы которых, особенно полностью раскопанный памятник Кюль-тегина (Новгородова, 1981, с. 207-213), являются эталонными.
Погребения с конём VII-VIII вв. Катандинский этап. Выделить погребения периода Второго каганата на территории Южной Сибири можно по появлению в них ряда элементов материальной культуры, не встречавшихся в памятниках предшествующего времени: серьги, так называемого «салтовского типа» (табл. III, 9), бронзовые пряжки со щитком (табл. III, 19), железные эсовидные псалии с петлёй (табл. III, 1), стремена с пластиной (табл. III, 16), гладкие поясные бляхи-оправы, главным образом простых геометрических форм — прямоугольные, с округлым верхним краем (табл. III, 2-4) и т.д. Причины появления этих инноваций, не являющихся результатом развития форм предшествующего времени, не совсем ясны. Хронологически они совпадают со сведениями о смене погребального обряда у тюрков-тугю и алтайским походом Чеби-хана, который, как уже говорилось, в 630 г. во главе 30 тыс. войска «ушел на северную сторону Золотых гор», как полагает Л.Н. Гумилёв, через Сайлюгем (Гумилёв, 1967, с. 229-230), т. е. в Чуйскую степь, где находятся могильник Курай и другие наиболее известные погребения с конём, относящиеся к этому времени. Можно согласиться с Л.Н. Гумилевым, что «30 000 строевого войска», во главе которых шёл Чеби, не могли быть одновременно уничтожены и переведены в Хангай, а какая-то их часть должна была остаться на Алтае и сыграть определенную роль в развитии культуры местного населения (Гумилёв, 1967, с. 230-231). В письменных источниках в составе телеских владений во второй половине VII в. упоминается племя чеби, которое жило по соседству с карлуками Западного Алтая (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 272) и, возможно, представляло собой ассимилированных потомков войска Чеби-хана.
Одной из наиболее достоверных хронологических привязок для определения времени возникновения южносибирских памятников периода Второго тюркского каганата могут служить пред-
(61/62)
меты, найденные в датированных слоях Пенджикента, павшего в результате арабского завоевания в 720 г. Наиболее полно здесь представлены серьги, пряжки и бляхи-оправы от поясных наборов (прямоугольные, с округлым краем, скошенные с одной стороны, с фестончатым краем), а также бляшки-лунницы, сердцевидные, четырёхлепестковые и др. (Распопова, 1979; 1980, с. 65-102). Все они встречаются в погребениях Южной Сибири и дают возможность определить время памятников, в которых они были найдены, — VII-VIII вв.
На территории Горного Алтая к ним относится в первую очередь Катанда II, к. 5, (раск. 1954 г.), представляющая собой погребение с конём и северо-восточной ориентировкой. С человеком здесь были найдены прямоугольные бляхи-оправы, бронзовая пряжка, серьги «салтовского типа», глиняное пряслице и обломок зеркала; с конём — железные однокольчатые удила, прямые костяные псалии с металлическими скобами, два стремени (одно с петельчатой, другое с пластинчатой дужкой), роговые застёжки от пут и орнаментированные накладки низкой луки седла (табл. III, 2, 10, 15, 16, 19; X, 3). Остатки тканей аналогичны найденным в Средней Азии на горе Муг, бытовавшим в Согде до первой четверти VIII в., что ещё раз подтверждает принятую датировку (Бентович, Гаврилова,1972). По материалам этого погребения А.А. Гаврилова дала всем одновременным памятникам Саяно-Алтая название могил катандинского типа (Гаврилова, 1965, с. 61-64).
Два аналогичных захоронения были раскопаны нами на могильнике Узунтал в Сайлюгемской степи. В одном из них (УЗ V, к. 1) находился скелет женщины, ориентированный на юго-восток. В погребении были найдены плоский игольник прямоугольной формы со сложным растительным орнаментом, семь сбруйных золотых бляшек (табл. III, 5) и орнаментированная костяная накладка низкой передней луки седла (табл. Х, 5). В другом — также женском (УЗ VIII, к. 1), аналогичном по обряду, но с северо-восточной ориентировкой найдены игольник с крыловидно оформленной верхней частью и геометрическим орнаментом, серьга «салтовского типа», обломок зеркала, деревянный гребешок, удила с эсовидными псалиями, два стремени с петельчатыми дужками, квадратная подпружная пряжка и две костяных застёжки от пут (Савинов, 1982, с. 107, 111-112).
В Центральной Туве наиболее крупный могильник VII-VIII вв. — Кокэль с северной (с небольшими отклонениями на северо-восток, северо-северо-восток) ориентировкой погребённых, исследованный С.И. Вайнштейном (Вайнштейн, 1966а). Материалы большинства кокэльских погребений, в том числе и кургана 23, наиболее раннего, по мнению С.И. Вайнштейна, представляют собой однообразный комплекс предметов: деревянные сосуды, костяные пряжки с округлой верхней частью,
(62/63)
стремена с петельчатой дужкой, застёжки от пут, топоры-тёсла, концевые и срединные накладки луков, трёхпёрые наконечники стрел с костяными насадами-свистунками, железные однокольчатые удила, черешковые ножи, костяные лировидные подвески небольших размеров и т.д. (табл III 1, 7, 11-13, 18, 20-22).
В Юго-Западной Туве из серии раскопанных А.Д. Грачом погребений с конём VII-VIII вв. датируются курганы МТ-57-XXXVI — детское погребение с северной ориентировкой и сопроводительным захоронением барана; MT-58-VIII — погребение с конём и северной ориентировкой; МТ-57-Х — также погребение с конём, но с восточной ориентировкой (Грач, 1960, с. 31—33; 1960а, с. 120—129). В них были найдены пояса с гладкими бляхами-оправами (прямоугольной формы и с округлым верхним краем), железные петельчатые стремена, застёжки от пут, концевые и срединные накладки лука, трёхпёрые наконечники стрел, пряжка с язычком на вертлюге и др.
К периоду Второго тюркского каганата относится большая часть погребений с конём в Минусинской котловине — могильник Капчалы II (Левашова, 1952, с. 120-136), недавно открытые захоронения у г. Тепсей (Грязнов, Худяков, 1979, с. 146-159) и др. Ориентировка погребённых в Минусинской котловине неустойчива или тяготеет к северному, северо-западному направлению. Предметы сопроводительного инвентаря близки к материалам погребений VII-VIII вв. в Туве (ак-туругский этап по периодизации С.И. Вайнштейна) и на Горном Алтае (катандинский тип могил по периодизации А.А. Гавриловой).
Происхождение и этническая принадлежность погребений с конём в Минусинской котловине неоднократно обсуждались в литературе. С.В. Киселёв и Л.А. Евтюхова считали их принадлежащими к енисейским кыргызам, перешедшим в IX в. к обряду трупоположения с конём (Киселёв, 1951, с. 603-604; Евтюхова, 1948, с. 60-67). С этой датировкой согласилась В.П. Левашова, но она полагала, что обряд трупоположения с конём был занесен на Енисей в IX в. с Алтая, «когда Алтай, зависимый от енисейских кыргызов, был тесно связан с Хакассией» (Левашова, 1952, с. 136). Большинство исследователей появление погребений с конём в Минусинской котловине так или иначе связывают с проникновением сюда тюрков-тугю, но по-разному датируют и соответственно интерпретируют это событие. С.А. Теплоухов, относивший раскопанное им погребение над р. Таштык к VII в., отмечал, что «подобного рода могилы являются новым типом для Минусинского края. Они хорошо известны около урочища Кудыргэ на Алтае. Весьма возможно, что описанная могила принадлежит представителю турков (тюрков — Д.С.), появившихся в VII в. в Минусинском крае» (Теплоухов, 1929, с. 55). Л.Р. Кызласов считает, что погребения с конём, как и другие нетипичные для хакасов
(63/64)
(кыргызов — Д.С.) захоронения, оставили представители «иных этнических групп — южносамодийских, кетоязычных или других племён, а также алтайские тюрки, выходцы из Горного Алтая или Тувы. Эти люди, попадая часто на землю древних хакасов (кыргызов. — Д.С.) в качестве рабов, кыштымов, дружинников, клиентов и союзников, хоронили умерших по своим погребальным обрядам» (Кызласов, 1975, с. 206-207). А.Д. Грач рассматривал погребения с конём как памятники военных «гарнизонов» древних тюрков на Среднем Енисее (Грач, 1966, с. 191). Посвятивший специальное исследование этому вопросу Ю.С. Худяков датирует все погребения с конём в Минусинской котловине VIII-IX вв., считает их древнетюркскими и связывает появление здесь с походом 711 г. тюрков-тугю за Саяны. К ним же он относит несколько каменных изваяний, отдельные рунические надписи, оградки и поминальное сооружение у с. Знаменка (Худяков, 1979). После некоторого периода проживания на Среднем Енисее, по мнению Ю. С. Худякова, в IX-X в. тюрки слились с кыргызами и переняли у них обряд трупосожжения, доказательством чего является одно из погребений у г. Тепсей (Тепсей III, мог. 9).
Мнение Ю. С. Худякова может быть принято как гипотеза, отражающая один из этапов проникновения тюрков (точнее, алтае-телеских тюрков) на Средний Енисей. Вместе с тем нельзя забывать о том, что сложную и мало нам известную историю взаимоотношений тюрков-тугю и енисейских кыргызов вряд ли правомерно сводить только к походу 711 г. Погребения с конём на территории Минусинской котловины образуют определённый хронологический ряд: Усть-Тесь и Кривинское (VI-VII вв.); Капчалы II, Тепсей III (VII-VIII, скорее всего VIII в.); Таштык (VIII-IX вв.); Уйбат II, где найдены уже плоские ромбические наконечники стрел (IX-X вв.), что можно рассматривать как отражение длительного проживания на протяжении всей второй половины I тыс. в Минусинской котловине какой-то группы населения, хоронившей своих покойников в сопровождении коня. Это не исключает усиления данной общности в результате похода 711 г.
За пределами Саяно-Алтая погребений с конём VII-VIII вв. известно очень мало. Достоверно могут быть определены только несколько комплексов, в том числе погребение в Чуйской долине на Тянь-Шане (Шер, 1961) и впускное захоронение Чиликты, к. 2 в Восточном Казахстане (раск. С.С. Черникова, 1961 г.). Такое уменьшение количества погребений с конём за пределами Саяно-Алтая в VII-VIII вв. может быть сопряжено с сокращением политических границ Второго тюркского каганата по сравнению с Первым. Видимо, одновременно оно может рассматриваться как отражение определённых процессов этнической консолидации прежде распылённых групп тюркоязычного населения на территории Саяно-Алтайского на-
(64/65)
горья. В памятниках этого времени часто встречается северная (с различными отклонениями) ориентировка погребённых, свидетельствующая и о каких-то изменениях и в области идеологических представлений.
Погребения с конём VIII-IX вв. Курайская культура. Расцвет культуры алтае-телеских тюрков совпадает со временем падения Второго тюркского каганата и синхронно существованию Уйгурского каганата (745-840 гг.). К этому периоду относится большинство известных на Алтае, в Туве и Монголии погребений с конём, что еще раз подтверждает неправомерность отождествления их только с, тюрками-тугю, которые после падения тюркских каганатов уже не играли решающей роли в политических событиях северных районов Центральной Азии. По периодизации А.А. Гавриловой, большинство погребений с конём относится к VII-VIII вв. (Гаврилова, 1965, с. 61-66), однако нет никаких оснований их все помещать в прокрустово ложе могил катандинского типа. Это ясно показали исследования Л.Р. Кызласова и С.И. Вайнштейна. Хотя предложенные ими периодизации построены по разному принципу — С.И. Вайнштейн выделяет ряд последовательных этапов развития культуры на территории Тувы, а Л.Р. Кызласов использует хронологические рамки существования государственных объединений, — в том и в другом случае многие вещи катандинского типа находят своё место в сводных таблицах VIII-IX вв. (Кызласов, 1969 — табл. II) или в хронологическом ряду VIII-X вв. (Вайнштейн, 1966, рис. 10). В обобщающей работе В.А. Могильникова также отмечается, что «материалы катандинского типа, синхронизируемые А.А. Гавриловой с эпохой Второго тюркского каганата, на самом деле датируются временем вплоть до середины IX в., т.е. относятся не только ко Второму тюркскому, но и Уйгурскому каганату» (Могильников, 1981, с. 39).
Погребальные памятники VIII-IX вв. Южной Сибири датируют следующие находки: детали поясных наборов из слоёв середины и третьей четверти VIII в. в Пенджикенте (Распопова, 1980, рис. 63-64), монета выпуска 713-741 гг. в одном из тувинских погребений — БТ-59-1 (Грач, 1966а, с. 96-99), тюргешская монета 740-742 гг. в одной из могил на Горном Алтае — Катанда II, кург. 2 (Гаврилова, 1965, с. 67-68, рис. 9), палеографические особенности надписи на серебряном зеркале из Тувы MT-57-XXVI (Грач, 1958, 1960, с. 18-31), которую В.С. Колоков и Б.И. Панкратов считают возможным датировать VIII-IX вв. (Итс, 1958, с. 36), отдельные вещи, ранее не встречавшиеся в погребениях VII-VIII вв. (железные котлы, топоры салтовского типа, металлические лировидные подвески), близкие параллели в деталях погребального обряда (устройство «тайников») и предметах сопроводительного инвентаря с памятниками копёнского этапа культуры ени-
(65/66)
сейских кыргызов, для одного из которых была установлена дата «около середины или даже второй половины IX в.» (Маршак, 1971, с. 54-58).
К общераспространенным типам вещей VIII-IX вв. относятся серебряные кувшинчики на поддоне (табл. IV, 24), зеркала, металлические лировидные подвески с сердцевидной прорезью (табл. IV, 2-3), поясные бляхи-оправы «портальной» формы (табл. IV, 7, 8) и со скошенным краем, овальные уздечные бляшки с фестончатым краем (табл. IV, 23), четырёхлепестковые бляшки-розетки (табл. IV, 12), трёхпёрые наконечники стрел с круглыми отверстиями в лопастях (табл. IV, 19), срединные накладки луков (табл. IV, 17), топоры-тёсла, ножи, панцирные пластины, стремена с высокой пластинчатой дужкой (табл. IV, 22), двукольчатые удила с эсовидными псалиями с «сапожком» (табл. IV, 1, 11), крупные подпружные пряжки с язычком на вертлюге (табл. IV, 20), тройники для перекрестия ремней с вырезными лопастями (табл. IV, 15), щитовидные наконечники ремней с вырезным верхним краем и т.д. В отличие от катандинских серий вещи VIII-IX вв. орнаментированы с широким использованием сердцевидных, крыловидных мотивов, фигурной скобки и др. Края бляшек поясных наборов чаще всего вырезные, растительная орнаментация богаче, контуры предметов изощрённее. По отдельности многие из этих предметов встречаются и в других памятниках Саяно-Алтая VIII-X вв., однако в таком сочетании они образуют сложившийся культурный комплекс.
Обобщённо погребальный обряд населения Южного Алтая, Западной Тувы и соседних районов Монголии, откуда происходит подобный комплекс предметов сопроводительного инвентаря, можно представить следующим образом. Все захоронения, как мужские, так и женские, совершались в грунтовых ямах, в сопровождении коня, реже двух коней, в некоторых случаях даже трёх (Курай IV, кург. 1, 3). Положение погребённых, как правило, на спине. Преимущественная ориентировка — северная и северо-восточная (с различными отклонениями), что, возможно, объясняется совмещением двух традиций — восточной ориентировки, характерной для более ранних памятников VI-VII вв., и северной, встречающейся в погребениях VII-VIII вв. Впрочем, между ними нет принципиальной разницы, так как та и другая лежат в пределах северо-восточного сектора, а отклонения от них могут быть вызваны сезонным характером захоронений при господствующем значении северной или восточной ориентировки. Ориентировка коней такая же или обратная. Взнузданные кони помещались на невысокой приступке справа или слева от человека и отделялись стенкой из камней, вертикально вкопанных плит или лиственничных плах. Некоторые особенности погребального обряда можно проследить и в наборе предметов сопроводительного инвентаря. Так,
(66/67)
видимо, ритуальными мотивами объясняются частые случаи нахождения в одних и тех же могилах разнотипных стремян, которые вряд ли можно объяснить только утилитарными соображениями. Интересной деталью погребального обряда являются также случаи совместного нахождения в женских погребениях зеркала, костяного или деревянного гребешка и ножичка, отражающих реальную этнографическую особенность оставившего их населения.
Близкие формы погребального обряда и предметов сопроводительного инвентаря позволяют объединить эти памятники в рамках одной археологической культуры, которая по наиболее известному могильнику может быть названа курайской. Памятники курайской культуры охватывают горно-степные районы Южного Алтая, Западной Тувы и, возможно, соседние районы Северной Монголии. В этническом отношении население курайской культуры может быть условно определено как алтае-телеские тюрки, если иметь в виду общность, образовавшуюся в результате взаимодействия собственно тюркских и телеских племён на северной периферии Древнетюркских каганатов. Это было скотоводческое население, кочевавшее в пределах Саяно-Алтайской горной системы. В своем развитии курайская культура прошла три последовательных этапа: сложения, этот этап в целом был верно намечен А.А. Гавриловой и может быть назван катандинским (VII-VIII вв.); расцвета, который, учитывая общее название культуры, мы предлагаем назвать туэктинским (VIII-IX вв.); и наконец, завершения — поздний этап курайской культуры (IX-X вв.).
На Горном Алтае все этапы развития курайской культуры представлены материалами погребений самого Курайского могильника в Чуйской степи, исследованного С.В. Киселёвым и Л.А. Евтюховой в 1935 г. (Евтюхова, Киселёв, 1941). Наиболее ранние из. них, в которых были найдены гладкие бляхи-оправы, костяные пряжки с округлой верхней частью, застежки от пут и т.д., близки к могилам катандинского типа (VII-VIII вв.). Большая часть погребений, в том числе н наиболее яркие — с «тайниками» и сопроводительным захоронением нескольких коней (Курай IV, к. 1, 3), в которых были найдены великолепный наборный пояс с лировидными подвесками и надписью на наконечнике «Хозяина Ак-Кюна... кушак», серебряный сосуд, костяная рукоятка плети с зооморфным навершием, многочисленные украшения, серия наконечников стрел и т.д., датируются VIII-IX вв. Аналогичные вещи были найдены в туэктинских курганах (Туэкта, к. 3, 4). Некоторые курайские погребения, в частности Курай III, к. 2, откуда происходит стремя с приплюснутой петлёй и прорезной подножкой — формой, характерной для культуры енисейских кыргызов, представляют поздний этап курайской культуры (IX- X вв.).
(67/68)
К туэктинскому этапу курайской культуры относятся также несколько могил, включённых А.А. Гавриловой в сросткинский тип, — Катанда II, кург. 2, 1925 г.; Катанда II, большой курган, впускная мог. 2, 1954 г.; Яконур, кург. 3, 1939 г. (Гаврилова, 1965, с. 66-70) и два погребения, раскопанные нами на могильнике Узунтал в 1972 г. (Савинов, 1982, с. 109-111).
В Юго-Западной Туве с этими погребениями синхронны курганы, раскопанные А.Д. Грачом в Монгун-Тайгинском — MT-57-XXVI (Грач, 1960, с. 18-31), Бай-Тайгинским-БТ-59-1 (Грач, 1966а, с. 96-99) и Овюрском — Саглы-Бажи, к. 19, 22, 25, 26 (Грач, 1968а) районах. Как далеко на юг простирались границы распространения курайской культуры, сказать трудно. Очень близкие погребения как по погребальному обряду (сопроводительное захоронение двух коней, восточная и юго-восточная ориентировка), так и предметам сопроводительного инвентаря (эсовидные псалии, стремя с пластинчатой дужкой, зеркала, гребни, пряжки, детали поясных и сбруйных наборов) были открыты на р. Орхоне — Джаргаланты, к. 2 (Евтюхова, 1957, с. 207-216) и р. Толе — Наинтэ-сумэ (Боровка, 1927, с. 73-74), однако отсутствие аналогичных памятников в районах Северо-Западной Монголии, непосредственно примыкающих к Южному Алтаю и Юго-Западной Туве, не даёт возможности ответить на этот вопрос более или менее определённо.
Своеобразный вариант погребений VIII-IX вв. исследован в Центральной Туве (Аймырлыг III и др.). По ним был определён центрально-тувинский тип захоронений с подбоями (Длужневская, Овчинникова, 1980, с. 81). Предметы сопроводительного инвентаря в них аналогичны другим памятникам VIII-IX вв. Вместе с тем Б.Б. Овчинникова убедительно выделила ряд уйгурских элементов одного из центральнотувинских погребений на могильнике Аймырлыг III: лук со срединной накладкой «уйгурского типа», железный клёпаный котел с двумя ручками на полом поддоне, сама форма захоронения в подбое, характерная для уйгурского могильника на р. Чааты, принадлежавшего, по мнению Л.Р. Кызласова, жителям Шагонарских городищ (Кызласов, 1979, с. 158). Б.Б. Овчинникова отмечает, что «они отражают черты, характерные как для древнетюркских, так и для уйгурских племён» (Овчинникова, 1982, с. 217). Очевидно, этим обстоятельством объясняются различия между центрально- и западнотувинским типами захоронений, относящимся к курайской культуре, в материалах которой нет столь ярко выраженного уйгурского влияния. О том, как выглядели памятники VIII-IX вв. местного населения Центральной Тувы (чиков?), вступившего в контакт с центральноазиатскими уйгурами, дают представление несколько погребений этого времени, раскопанные С.А. Теплоуховым у г. Байдаг-Чааты II (Кызласов, 1979, с. 188-191).
Древнетюркские оградки. Одним из наиболее известных па-
(68/69)
мятников древнетюркской эпохи являются четырёхугольные оградки с рядами камней-балбалов, в огромном количестве известные во всех районах Саяно-Алтайского нагорья и Монголии. Исследование многих из них не дало никаких остатков захоронений и показало культово-поминальное назначение этих сооружений.
Исследования всех предшествующих лет убедили исследователей, что в древнетюркских оградках отсутствуют предметы сопроводительного инвентаря. Тем не менее в последние годы сделан ряд интересных и важных находок. Так, на Горном Алтае на р. Юстыд в оградке около изваяния с сосудом в двух руках найдены стремена, удила, сбруйные наборы, а в отдельном поминальном ящичке — верхняя часть серебряного сосуда (Кубарев, Кадиков, Чевалков, 1968, с. 228). В других оградках на Горном Алтае были найдены такие же вещи, в том числе плоский ромбический наконечник стрелы, позволяющий датировать комплекс, где он был найден, не ранее IX в. (Васютин, 1983, с. 192). Оградка с предметами сопроводительного инвентаря была обнаружена и в Центральной Туве (Овчинникова, 1973). Эти находки не только подтверждают культово-поминальное значение древнетюркских оградок, но и служат важным материалом для их хронологического определения.
В последние годы серия древнетюркских оградок была исследована В.Д. Кубаревым на Южном Алтае. С привлечением большого сравнительного материала по более ранним раскопкам на Алтае (около 100 объектов) им разработана наиболее полная в настоящее время типология древнетюркских оградок, включающая пять типов сооружений: кудыргинский, яконурский, аютинский, юстыдский и уландрыкский (Кубарев, 1979, с. 147-157). Кудыргинский тип — коллективные смежные оградки без камней-балбалов по отдельным найденным в них вещам, как уже говорилось, датируются V-VI вв. Видимо, близки к ним по времени одиночные оградки уландрыкского типа со стелой посередине (типологически с ними сближаются оградки со стелами в Хачы-Хову), но отсутствие в них каких-либо находок затрудняет их датировку.
Для трёх других типов (аютинского, яконурского и юстыдского) В.Д. Кубарев определяет широкие границы бытования — VII-X вв., однако имеющийся материал позволяет конкретизировать датировку каждого из них. При раскопках одной из оградок юстыдского типа (Юстыд, оградка 1) под оленным камнем, заменявшим здесь изваяние, был найден серебряный сосуд на низком поддоне с фигурной ручкой и тамгообразным изображением горного козла (табл. IX, 5) — очень важная находка для датировки как оградок, так и наскальных изображений тюркского времени (Кубарев, 1979, рис. 7-9), Аналогичные по форме сосуды с руническими надписями происходят главным образом из погребений туэктинского этапа
(69/70)
курайской культуры, что позволяет отнести время существования оградок юстыдского типа к VIII-IX вв. Отличительной особенностью оградок яконурского типа является расположение их рядами в направлении с севера на юг. Для одной из них (поминальный комплекс на Дьёр-Тебе, оградка IV) была получена радиоуглеродная дата 945±27 лет, датирующая подобные сооружения IX-X вв. (Кубарев, 1978, с. 93-94).
Особо следует остановиться на оградках аютинского (по В.Д. Кубареву) типа, окружённых валом и рвом с наиболее реалистично и тщательно выполненными каменными изваяниями (Кубарев, 1979, с. 150-153). На Горном Алтае крупные сооружения подобного рода были открыты С.С. Сорокиным на р. Аюте и в устье р. Джумалы (Сорокин, 1969, с. 77-79), В, Д. Кубаревым на плато Кыпчыл (Кубарев, 1979, с. 151-153). Ближайшие аналогии им находятся в Туве — Кызыл-Мажалык, Сарыг-Булун и др. (Евтюхова, 1952, с. 116-118; Кызласов, 1969, с. 33-35). Одно подобное сооружение известно в Минусинской котловине — Знаменка (Евтюхова, 1952, рис. 70). Из них наибольший интерес представляет раскопанный Л.Р. Кызласовым комплекс в Сарыг-Булуне, представляющий собой насыпь, окруженную валом и рвом, размером 36x29 м. «На восточной стороне насыпи и во рву располагались высеченные из серого гранита фигуры двух людей, сидящих на поджатых вперед коленками ногах, а также два небольших изображения львов». С западной стороны насыпи находилась площадка для жертвоприношений, на которой была установлена восьмиугольная юрта (типа аила), покрытая Сверху лиственничной корой. После какого-то периода использования все сооружение было сожжено (Кызласов, 1969, с. 33, рис. 7).
Хронология различных типов древнетюркских оградок на Алтае (кудыргинский — V-VI вв., аютинский — VII-VIII вв., юстыдский — VIII-IX вв., яконурский — IX-X вв.) не означает, что эти типы последовательно сменяют друг друга. Скорее, можно предполагать преобладание той или иной традиции устройства поминальных сооружений на определённых этапах развития алтае-телеских тюрков. Кроме того, сами основания для датировок пока единичны и не могут служить для каких-то развернутых построений. Главный вывод, однако, сделан В.Д. Кубаревым правильно: «Анализ устройства этих оградок и находок в них позволяет прийти к заключению, что ни уйгурское, ни позднее кыргызское завоевания Алтая не только не вытеснили население алтайских тюрков с территории Восточного Алтая, но они продолжали обитать на Алтае, оживлённо контактируя с племенами Тувы и Хакасии, сохранив при этом традиционные захоронения с конём и почти неизменный на протяжении V-X вв. обычай сооружения поминальных оградок» (Кубарев, 1979, с. 160). В другой работе В.Д. Кубарев
(70/71)
отмечает, что «такое длительное бытование тюркских оградок, конечно, свидетельствует и о сохранившемся обычае установки изваяний на Алтае вплоть до X в.», хотя и допускает возможность вторичной установки более ранних изваяний у поздних поминальных оградок (Кубарев, 1978, с. 94, прим. 7).
Каменные изваяния VII-IX вв. К периодам существования Второго тюркского и Уйгурского каганатов относится значительная часть известных в настоящее время в Туве и на Горном Алтае древнетюркских каменных изваяний, оградок с рядами камней-балбалов и сложных культово-поминальных сооружений типа Сарыг-Булун. Реконструкция знаменитого комплекса Кюль-Тегина (Новгородова, 1981, с. 206-213) и персонифицированные балбалы с именами предводителей побеждённых тюрками Второго каганата объединений — Кук-сенгуна, Баз-кагана и др. (Грач, 1961, с. 74-75), позволяют уверенно экстраполировать выводы относительно хронологии, композиции и семантики мемориальных комплексов Монголии на аналогичные по назначению памятники Южной Сибири. В литературе уже неоднократно отмечалось, что оградки со стоящими с восточной стороны от них изваяниями и рядами камней-балбалов представляют собой как бы упрощённую «проекцию» храмовых комплексов типа памятника Кюль-Тегина. На этом основании, а также учитывая, несомненно, тюркский облик изображённых на изваяниях реалий, верхняя хронологическая граница существования каменных фигур при оградках синхронизировалась с концом Второго тюркского каганата (середина VIII в.), а частые случаи намеренного повреждения статуй, особенно их голов, приписывались уйгурам, выражавшим таким способом отрицательное отношение к своим исконным противникам тюркам-тугю. Однако новые материалы не позволяют считать эту точку зрения бесспорной.
Ритуальное назначение древнетюркских оградок и связь их с каменными изваяниями ни у кого из исследователей сомнения не вызывают. В настоящее время каменные скульптуры (или заменяющие их стелы) находятся только у некоторых из них, но ясно, что в прошлом изображение фигуры человека сопровождало каждую оградку. Впоследствии они могли быть разбиты, перенесены с первоначальных мест, уничтожены временем. Возможно, что часть изваяний была сделана из дерева, как это имело место позднее в половецкой (кыпчакской) скульптуре (Плетнёва, 1974, с. 29), или из других органических материалов. Широкая хронология в пределах второй половины I тыс. н.э. выделенных типов поминальных оградок ставит перед исследователями вопрос и об определении хронологических групп связанных с ними каменных изваяний.
Наиболее достоверно может быть решена датировка сидящих фигур в сложных мемориальных комплексах типа Сарыг-Булун (табл. VIII, 9, 10). Типологически они занимают проме-
(71/72)
жуточное положение между рядовыми древнетюркскими оградками с изваяниями, изображающими «стоящую» фигуру, и храмовыми комплексами типа памятника Кюль-Тегина. Принадлежность их к периоду Второго тюркского каганата (VII-VIII вв.) была определена ещё Л.А. Евтюховой (Евтюхова, 1952, с. 117-118). Это подтверждается находкой глиняного кувшина среднеазиатского происхождения в Сарыг-Булуне (Кызласов, 1969, рис. 8) и изображением поясных наборов катандинского типа на тувинских сидящих статуях (Кызласов, 1969, рис. 5).
Памятники типа Сарыг-Булун продолжают древнюю традицию изображения человеческой фигуры, в средствах передачи которой можно наметить несколько хронологических вариантов: манекены с «глиняными головами» и масками (тесинский этап, таштыкская культура), графическое изображение сидящей фигуры — «нарисованный облик покойного» (таштыкские стелы, возможно, часть антропоморфных изваяний Первого тюркского каганата), скульптурное изображение сидящих человеческих фигур (Сарыг-Булун и др.). Именно в этом виде поминальных сооружений устойчиво проявилась основная идея древнетюркского погребально-поминального цикла, одним из главных компонентов которого было сохранение облика умершего для совершения различного рода ритуальных действий.
На каком-то этапе способ изображения покойного изменился — появились так называемые «ростовые фигуры», представляющие как считалось стоящего человека. Поза стоящих фигур явилась одним из аргументов объяснения семантики древнетюркских изваяний как изображений главных врагов тюрков-тугю, призванных служить им в потустороннем мире (Грач, 1961, с. 73-83). Дальнейшие исследования показали, что впечатление о древнетюркских каменных изваяниях как стоящих фигурах оказалось обманчивым. Я.А. Шер первым, правда, в осторожной форме высказал предположение, что в древнетюркской скульптуре «изображены сидящие, а не стоящие люди» (Шер, 1966, 26, прим. 11). С.Г. Кляшторный на основании новых переводов рунических текстов и специального анализа термина «bediz», обозначающего сидящую фигуру, пришел к определенному выводу о том, что «практически все древнетюркские изваяния Монголии, Южной Сибири, Тувы и Семиречья, если даже они не изображены с подогнутыми ногами или на сиденьях (как, например, в Дариганге), показаны как сидящие — немного ниже пояса скульптура завершается, и остается лишь необработанная часть камня, погружаемая в землю. На поверхности земли, таким образом, изваяние фиксировалось в позе восседающего, хотя изображение подогнутых ног, не всегда легко исполнимое технически, опускалось» (Кляшторный, 1978, с. 250). Связь между сидящими фигурами типа Дариганги и Сарыг-Булуна, с одной стороны, и «стоящими» древ-
(72/73)
нетюркскими изваяниями — с другой, подтверждается и тем, что на некоторых обычных с точки зрения древнетюркской иконографии скульптурах из Восточного Казахстана, Семиречья и Монголии (табл. VIII, 1-5, 7) встречаются как дань традиции изображения подогнутых «калачиком» ног (Шер, 1966, табл. XXV, рис. 120; Савинов, 1981, рис. 2; Мокрынин, Гаврюшенко, 1975, рис. 41).
Точная датировка «стоящих» фигур с оружием в одной руке н сосудом в другой, расположенных при оградках во главе вертикально вкопанных камней-балбалов, представляет значительную сложность. Основная трудность заключается в том, что изображённые на них реалии (пояса, сосуды, предметы вооружения, серьги) не только имели длительный период бытования в пределах второй половины I тыс. н.э., но и в самом археологическом материале плохо поддаются типологическому анализу, который серьезно осложняется при работе с их воспроизведениями в камне, иногда технически несовершенными.
Изваяния периода Второго тюркского каганата предположительно могут быть выделены по изображениям на них вещей катандинского типа, главным образом поясов с прямоугольными бляхами-оправами и серёг «салтовского типа». Помимо упоминавшихся выше сидящих фигур в Туве (Сарыг-Булун, Кызыл-Мажалык) и изваяний у оградок аютинского типа на Горном Алтае VII-VIII вв. могут датироваться «стоящие» фигуры с такими же атрибутами, но без изображений сабель и сосудов на поддоне курайского типа. Продолжая мысль Я.А. Шера о хронологическом значении видов рубящего оружия на каменных изваяниях, следует отметить, что на них чаще всего изображены мечи или палаши с прямой рукоятью, предшествовавшие появлению сабли.
К периоду существования Уйгурского каганата могут быть отнесены такие же изваяния, но с изображением палашей и сосудов на поддоне курайского типа. Важное значение для датировки этой группы изваяний имеют находки палашей с прямой рукоятью в погребениях VIII-IX вв. в Восточном Казахстане (Арсланова, 1963, табл. II) и в Туве (Овчинникова, 1982, рис. 3, № 21). В своё время А.К. Амброз отмечал, что многие «изваяния при оградках снабжены реалиями VIII-IX вв.» (Амброз, 1971, с. 121). В свете раскопок древнетюркских оградок на Алтае эта точка зрения представляется вполне вероятной, хотя точное определение хронологических групп древнетюркских каменных изваяний при оградках — дело будущих исследований.
Отнесение ряда древнетюркских изваяний с оружием и сосудом при оградках к VIII-IX вв. в свою очередь ставит вопрос об их отношении к изваяниям поздней, так называемой «уйгурской группы», изображающим фигуру человека с сосудом в двух руках и без сопроводительных оградок с камнями-
(73/74)
балбалами, известными в Туве (Евтюхова, 1952, рис. 20-26; Грач, 1961, с. 67-68, 91; Кызласов, 1969, с. 80-82). Несмотря на различия иконографических особенностей, в реалиях этих изваяний есть общие черты, например поясные бляхи-оправы и кувшинчики на поддоне курайского типа. Тувинские изваяния с сосудом в руках отличаются сложным устройством пояса с дополнительными ремешками и лировидными подвесками, которые и послужили основанием для более поздней их датировки. Действительно, лировидные подвески никогда не встречаются на изваяниях с оружием, но в археологических памятниках они известны начиная с VIII-IX вв. повсеместно. Нам представляется более правдоподобной оценка таких подвесок не как хронологического, а как социального признака. Так, лировидные подвески украшают пояса чиновников, изображенных на стенах купольных гробниц династии Ляо (Тори, 1942, рис. 2). Я.А. Шер на примере семиреченских изваяний убедительно показал, что фигуры с сосудом в двух руках относятся «к изображениям чиновной аристократии, людей, близких к правящей военной верхушке, но не занимающихся непосредственно военным делом» (Шер, 1966, с. 58). Думается, что это определение применимо и для южносибирских изваяний. В таком случае изображения воинов с оружием и чиновников с сосудом в двух руках могут оказаться одновременными, но относящимися к разным социальным группам древнетюркского общества.
Тамгообразные изображения горных козлов. Последний компонент «древнетюркской триады» — схематические изображения горных козлов, названные А.Д. Грачом по месту их первоначального нахождения в Туве изображениями типа Чуруктуг-Кырлан (Грач, 1973). В классическом виде они представлены тамгами на стелах тюркских каганов на р. Орхоне (памятник Кюль-Тегина, Асхетский рельеф, Онгинский памятник и др.). Их отличительной особенностью является строгая профильность изображения, передача рогов, туловища и ног линиями равной толщины (табл. IX, 2-4, 6). Схематические рисунки горных козлов встречаются на некоторых тувинских изваяниях (табл. IX, 14), наскальных изображениях с руническими надписями из Монголии и Минусинской котловины (табл. IX, 7, 8). Такое же изображение горного козла, как уже говорилось, нанесено на донышке серебряного сосуда (табл. IX, 5), найденного в одной из оградок на р. Юстыд на Горном Алтае (Кубарев, 1979, рис. 9). Принадлежность подобных изображений ко времени Второго тюркского каганата сомнения не вызывает. Огромное количество таких же рисунков, но отличающихся меньшей степенью схематизации, нанесено на скалах Центральной Азии и Южной Сибири, Средней Азии и Казахстана (табл. IX, 9-13). Территория их распространения в основном совпадает с границами Первого тюркского каганата. Самым
(74/75)
ранним из них можно считать изображение на стеле из Хачы-Хову (Юго-Западная Тува), относящееся к раннетюркскому времени (табл. IX, 1). Между ним и предельно схематизированным рисунком на памятнике Кюль-Тегина и его аналогами лежит цепь изменений, превративших реалистический рисунок в условную схему, в тамгу.
Наметить отдельные хронологические звенья этой цепи при отсутствии датирующих вещественных аналогий чрезвычайно трудно, тем не менее принадлежность таких изображений древнетюркской эпохе представляется единственно возможной. В связи с этим не может быть принята передатировка их скифским временем, предложенная некоторыми исследователями на том основании, что образ горного козла являлся одним из наиболее распространенных в скифо-сибирском искусстве (Маннай-оол, 1967). Как справедливо отметил Я.А. Шер, «горные козлы вообще выбивались на скалах с незапамятных времен и почти до наших дней. Но ведь речь идёт не о том, что изображено, а о том, как изображено данное животное» (Шер, 1980, с. 254-255, прим. 20).
Что касается семантики данных изображений, то на стелах тюркских каганов они выступают в роли каганских тамг, т.е. являются символами их власти, что по смыслу тождественно символу каганата вообще. Поэтому схематические рисунки горных козлов можно в значительной степени определить как памятник политического характера, которым наносивший его человек подчеркивал свою принадлежность к данному государственному объединению. Показательно, что на территории Минусинской котловины, не входившей в состав Древнетюркских каганатов, известно только несколько подобных изображений.
Племена Северного Алтая в тюркское время. Образование и крушение центральноазиатских государственных объединений не могло не вызвать некоторой перегруппировки алтае-телеских тюрков и оттеснения части их, в первую очередь горно-алтайских племён, на территорию Северного Алтая и в прилегающие районы юга Западной Сибири. Ко времени существования Первого тюркского каганата, по-видимому, относятся несколько погребений Осинкинского могильника, исследованного нами в 1970 г. (мог. 19, 21, 23, 52). Они представляют собой одиночные трупоположения на спине с неустойчивой ориентировкой погребенных (северо-запад, юго-запад, северо-восток). В числе предметов сопроводительного инвентаря найдены бронзовые щитовидные и фигурные бляшки, трёхпёрый наконечник стрелы, однокольчатые удила с одним костяным двудырчатым псалием (Савинов, 1971, с. 219-220). По форме этих предметов, ранее не встречавшихся в культуре Северного Алтая, они связываются с кругом памятников кудыргинского типа. Некоторый приток тюркского населения в районы Северного Алтая мог вызвать и поход Дулу-хана
(75/76)
в 641 г. против цюйше (протокыпчаков?). Показательно, что именно в это время кончает своё существование верхнеобская культура, скорее всего, в результате прихода новых тюркских племён (Могильников, 1980, с. 243).
К более позднему времени относится могильник, раскопанный А.П. Уманским на р. Ине (Уманский, 1970). Для инских погребений характерны трупосожжения и трупоположения с северо-восточной ориентировкой, нахождение нескольких могильных ям под одной насыпью (кург. 4), сопроводительные захоронения коней и собак, подбои для конских погребений, наземные дерновые сооружения и следы обильных тризн (наследие верхнеобской культуры?). Все это говорит о сложном этническом составе оставившего их населения. Предметы сопроводительного инвентаря, найденные в инских погребениях, за исключением керамики, в наибольшей степени сопоставимы с курайскими. А.П. Уманский датировал могильник на р. Ине VIII-IX вв. и отнес к тюркютам, «которые с VII в. стали переходить от трупосожжения к трупоположению» (Уманский, 1970, с. 72). Позднее было высказано мнение о принадлежности его более раннему периоду времени — конец VII-VIII вв. (Неверов, 1980, с. 101). В дальнейшем многие особенности погребального обряда инских курганов (сочетание трупосожжения и трупоположения, наличие нескольких могильных ям под одной насыпью, северо-восточная ориентировка, сопроводительные захоронения собак) станут характерными для памятников сросткинской культуры IX-X вв. Два впускных погребения с конём и сопроводительным инвентарем VIII-IX вв. известно на территории Кемеровской области (Мартынов, Мартынова, Кулемзин, 1971, с. 40-47).
С алтае-телескими тюрками связано и появление в степной части Алтая отдельных мемориальных памятников типа древнетюркских оградок и каменных изваяний. Так, подпрямоугольная оградка, где в слое золы под камнями были найдены кости животных и железные однокольчатые удила, раскопана на верхнем Алее (Могильников, 1977, с. 224). У одного из курганов у д. Павловка находилось гермообразное каменное изваяние. По замечанию авторов раскопок, «это первая находка каменной бабы, в степной части Алтайского края. По стилю она несколько отличается от каменных баб из районов Горного Алтая» (Медникова, Могильников, Уманский, Шемякина, Сергин, 1975, с. 223).
Несмотря на малочисленность этих материалов, можно предполагать, что на Северном Алтае в тюркское время проходили интенсивные процессы этнической ассимиляции и аккультурации. Смешиваясь с местным населением предшествующего времени, пришлые группы южного происхождения создавали тот этнокультурный субстрат, на основе которого в IX-X вв. сложился северо-алтайский вариант сросткинской культуры.
Глава III. Тюркское время 2. Культура енисейских кыргызов (с. 77-83)
В Минусинской котловине в тюркское время продолжает развиваться древняя культура енисейских кыргызов. Основанное на гяньгуньских (тесинских?) традициях, прошедшее период владычества раннетюркского владения Цигу (таштыкская культура), кыргызское объединение на Среднем Енисее постепенно становилось реальной политической силой на исторической арене Центральной Азии и Южной Сибири. От момента, когда в 568 г. каган Истеми подарил византийскому послу Земарху «пленницу из народа кыргыз» до откровенного признания автора памятника Тоньюкука в том, что «больше всего был нашим врагом киргизский сильный каган» (Малов, 1951, с. 66), прошло около 140 лет. За это время объединение енисейских кыргызов неоднократно подвергалось нападениям южных соседей, но сумело сохранить самостоятельность и превратиться в сильное государство, способное противостоять всем центральноазиатским государственным объединениям.
Кыргызы до начала уйгурских войн. Отдалённость территории енисейских кыргызов от восточных центров письменной традиции и в основном эпитафийный характер енисейских рунических надписей не дают возможности с достаточной полнотой восстановить политическую историю енисейских кыргызов до столкновения их с уйгурами. Однако имеющиеся сведения всё же позволяют представить характер внешнеполитических связей енисейских кыргызов с государствами Центральной и Восточной Азии — Вторым тюркским каганатом, императорским Китаем и теократическим Тибетом. В VIII в. усиливаются контакты енисейских кыргызов с населением южных районов Саяно-Алтая (тюрками-тугю и алтае-телескими тюрками). Отношения с тюрками-тугю установились ещё до похода 711 г. Известно, что кыргызский военачальник Барс-бег был женат на младшей сестре Могиляня (Бильге-кагана) и сам получил от тюрков титул кагана (Малов, 1951, с. 38). После гибели Барс-бега на Среднем Енисее было образовано тюркское наместничество, которое, видимо, просуществовало недолго, так как в 731 г. посланцы кыргызского хана в качестве «плачущих и стонущих» присутствовали на похоронах Кюль-Тегина (Малов, 1951, с. 43). Отношения с алтае-телескими тюрками не зафиксированы в письменных источниках, но достаточно ярко отразились в особенностях погребального обряда и общих сериях предметов сопроводительного инвентаря. Не исключено, что эта близость явилась следствием участия енисейских кыргызов и алтае-телеских тюрков в антиуйгурской коалиции, в которой принимали участие также карлуки Западного Алтая и чики Центральной Тувы.
Первое кыргызское посольство в Китай зафиксировано письменными источниками в 648 г. С 650 по 758 г. кыргызские послы побывали при китайском дворе семь раз, а с 713 по 755 г.— четыре раза (Нуров, 1955, с. 81). Усиление межгосударственных связей енисейских кыргызов с Китаем происходит в первой половине — середине IX в. в связи с кыргызско-уйгурскими войнами и победой в них енисейских кыргызов (Супруненко, 1963; 1975). В этом отношении показателен подсчёт танских монет на территории енисейских кыргызов, произведённый С.В. Киселёвым — VII в. — 45, вторая половина VII — первая половина VIII в. — монет нет, до 780 г. — 6, после 840 г. — 237 (Киселёв, 1947) — и Е.И. Лубо-Лесниченко, по мнению которого «столь большое количество монет, относящихся к периоду кыргызского великодержавия и находимых повсеместно на территории Минусинской котловины, заставляют предполагать, что они служили не только украшениями, но и выполняли в кыргызском государстве функции обмена» (Лубо-Лесниченко, 1975, с. 163).
Первое посольство в Тибет состоялось в 711 г., когда «император Жуйцзун получил сообщение, что в Тибете находится прибывшее туда ранее кыргызское посольство». Кыргызский посол в Тибет погиб и «не вернулся», как говорится в одной из рунических надписей Алтын-Кёля (Кляшторный, 1976, с. 266). Были ли посольства в последующее время — неизвестно, но, очевидно, с начала VIII в. между Тибетом и енисейскими кыргызами установились дипломатические и торговые отношения, которые несомненно способствовали успеху борьбы енисейских кыргызов с центральноазиатскими уйгурами.
Государство енисейских кыргызов тюркского времени представляло собой сложную этническую общность, состоявшую из этноса-элиты (собственно кыргызов) и ряда «вассальных поколений», занимавших подчинённое положение в социальной иерархии. Упоминавшийся выше кыргызский посол в Тибете происходил из «доблестного народа булсаров» (Кляшторный, 1976, с. 262), бесспорно привилегированного этноса, так как установленная в честь него стела находилась рядом с памятником Барс-бега, героя битвы 711 г. Другим народом, входившим в общность енисейских кыргызов, был народ ач, название которого встречается как на стелах и в наскальных надписях (Евтюхова, 1948, с. 5), так и на золотом кувшинчике из Копёнского чаа-таса: «Золото ... дар Ача». В связи с этим С.В. Киселёв отмечал, что подобные «дани-дары, очевидно, еще в VII-VIII вв. характеризовали отношения кыргызского народа и его знати». Несколько иную форму подчинения представляет надпись на другом копёнском сосуде: «Бегское серебро мы дали» (Киселёв, 1951, с. 602-603). Ряд племён был завоёван кыргызами, видимо, так следует понимать выражение «умертвил роды синего волка, черного волка умертвил» в одной из уйбатских надписей (Бутанаев, 1973, с. 152). На самой низкой ступени социальной лестницы стояли соседние горно-таёжные племена, в частности дубо: «Хягасы ловят их и употребляют в ра-
(78/79)
боту» (Бичурин, 1950, с. 354). В период ведения военных действий в них принимало участие всё население государства енисейских кыргызов. В источниках отмечается, что когда кыргызы «набирают и отправляют войско, то выступает весь народ и все вассальные поколения» (Кюнер, 1961, с. 60).
Вопросы этнографии енисейских кыргызов. Хозяйственно-культурный тип енисейских кыргызов до выхода их на историческую арену Центральной Азии, по мнению большинства исследователей, носил комплексный характер. Так, по сведениям Таншу, кыргызы предстают главным образом как народ земледельческий: «Сеют просо, ячмень, пшеницу. Мелют муку ручными мельницами; хлеб сеют в третьей, а убирают в девятой луне. Вино квасят из каши». Или: «Отсутствуют пять хлебов, имеется только ячмень, пшеница, темное просо, конопляное семя… Для пшеницы имеется пеший жернов, которым делают муку». Земледелие у кыргызов носило пашенное направление, которое невозможно без домашнего скотоводства. По данным того же источника, «есть верблюды и коровы, но более коров и овец», или: «верблюдицы, быки, бараны, причем особенно много быков». Крупный рогатый скот несомненно использовался кыргызами как тягловая сила в земледельческом производстве. «Богатые землепашцы, — отмечает Таншу, — водят их по несколько тысяч голов» (Бичурин, 1950, с. 351-352; Кюнер, 1961, с. 58-59).
Многочисленные остатки ирригационных сооружений в Минусинской котловине говорят о высокой культуре не просто плужного, но и орошаемого земледелия. В качестве основного земледельческого орудия, судя по археологическим находкам, использовался плуг с железным наконечником, сошником или лемехом. Урожай убирали серпами; обмолот производился при помощи специальных мельниц с жерновами. К этому следует добавить находки злаков в погребениях, сельскохозяйственных орудий и обломков жерновов на поселениях, наличие развитого керамического производства и металлургии. Стационарный характер хозяйства енисейских кыргызов подтверждается существованием у них укрепленных поселений и т.д. (Евтюхова, 1948, с. 73-103).
Отдельные группы кыргызов занимались отгонным скотоводством. Это подтверждается составом стада (лошади, овцы, верблюды), требующим именно такой формы содержания скота; видами пищи («питаются мясом и кобыльим молоком»); типом жилища («палатки, обтянутой войлоками»); обычаями («при браках калым платится лошадьми и овцами») (Бичурин, 1950, с. 351-353); существованием летников и зимников, зафиксированных археологическими раскопками кыргызских поселений на Табате (Худяков, 1982, с. 206-214). Однако па этом основании вряд ли можно считать енисейских кыргызов кочевниками в такой же степени, как, например, тюрков-тугю
(79/80)
или уйгуров. Культура кыргызов Среднего Енисея развивала традиции таштыкской культуры, хозяйство которой, как уже говорилось, носило комплексный характер. Переход таштыкцев к скотоводческой экономике не подтверждается никакими материалами. Сама территория Минусинской котловины, сравнительно небольшая по размерам, окруженная горно-таёжными массивами Саян и Кузнецкого Алатау, в значительно большей степени приспособлена к интенсивному земледелию, нежели к экстенсивному скотоводству. На протяжении всех предшествующих веков здесь последовательно развивались различные виды земледелия: от ручной, или мотыжной, его формы у тагарцев до появления первых пахотных орудий у таштыкцев и, наконец, плужного орошаемого земледелия у енисейских кыргызов. Можно предполагать, что преимущественное развитие земледельческого компонента в комплексном хозяйстве кыргызов (по сравнению с таштыкской культурой) послужило экономической основой государственного объединения, созданного ими во второй половине I тыс. н.э.
Памятники типа «чаа-тас» VI — середины IX вв. История изучения археологических памятников енисейских кыргызов наиболее полно и объективно рассмотрена Ю. С. Худяковым (Худяков, 1982, с. 6—24). В настоящее время приняты три основные периодизации культуры енисейских кыргызов во второй половине I тыс. н.э. Первая построена на принципе выделения культур — культуры чаа-тас (VI — первая половина IX вв.) с подразделением её на два хронологических этапа (утинский — VI-VII вв. и копёнский — VIII — первая половина IX вв.) и тюхтятской культуры (вторая половина IX-X вв.) (Кызласов, 1978; 1981, с. 46-52). Вторая — на принципе выделения эпох — эпохи чаа-тас (VI-VIII вв.) и эпохи великодержавия — IX—X вв. (Худяков, 1982, с. 24-71). И наконец, третья построена на выявлении основных закономерностей истории развития кыргызской общности — «VI — первая половина IX вв., когда она занимала ограниченную территорию на Среднем Енисее; середина IX — вторая половина X в. — время значительного расширения границ» (Длужневская, 1982, с. 118).
Принципиальных различий, за исключением самих дефиниций, в приведенных периодизациях, очевидно, нет — все они основаны на этапах истории енисейских кыргызов. Поэтому правомерно предложение Г. В. Длужневской: «Объединить археологические памятники VI-XII вв. на территории Тувы и Минусинской котловины под единым названием — культура енисейских кыргызов» (Длужневская, 1982, с. 118). Что касается хронологических рамок первого периода по периодизации Г. В. Длужневской, то они представляются излишне широкими для конкретного историко-культурного исследования. Вслед за
(80/81)
Л.Р. Кызласовым, в пределах VI-IX вв. можно выделить ряд конкретных типов памятников и этапов развития культуры енисейских кыргызов.
Основной вид погребальных сооружений енисейских кыргызов в Минусинской котловине во второй половине I тыс. н.э. — чаа-тас, что означает в переводе «камень войны». Наземная часть чаа-тасов представляла собой в прошлом юртообразную постройку из горизонтально положенных плит, у основания которой установлены вертикально вкопанные камни, явно продолжающие тагарскую и тесинскую традиции. Под ними в прямоугольных ямах, укреплённых по стенкам деревянными столбиками, находятся остатки трупосожжений, керамика и немногочисленные предметы сопроводительного инвентаря. Иногда здесь же встречаются и погребения по обряду трупоположения. Без существенных изменений, независимо от размеров сооружений и социального положения погребённых, основные конструктивные особенности чаа-тасов сохраняются на протяжении всей второй половины I тыс. н.э. вплоть до X в.
Памятники VI-VII вв. выделены Л.Р. Кызласовым под наименованием утинского этапа культуры чаа-тас (утинский — новое название для Койбальского чаа-таса, принятое Л.Р. Кызласовым). Основаниями для этого послужили: 1) расположение кыргызских захоронений на местах таштыкских могильников; 2) сохранение некоторых таштыкских элементов в устройстве погребальных сооружений; 3) отдельные предметы (металлические накладки с изображением парных головок лошадей) и керамика, продолжающие прежние таштыкские традиции (Кызласов, 1981, с. 48-49). Из числа предметов, включённых Л.Р. Кызласовым в хронологический ряд VI-VII вв., следует исключить кинжал «уйбатского типа» и стремя с высокой пластинчатой дужкой из собрания Минусинского музея (Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981, рис. 28), которые относятся к более позднему времени.
Памятники утинского (койбальского) этапа культуры енисейских кыргызов синхронны кудыргинскому этапу в истории культуры населения Горного Алтая и характеризуются теми же признаками: отсутствием поясных наборов с бляхами-оправами, двукольчатых удил, эсовидных псалий и других предметов, характерных для периода Второго тюркского каганата. Показательно, что в материалах ранних чаа-тасов (Койбальского, Сырского, Абаканского, Джесос и др.) значительно слабее отразились связи с культурой южных районов Саяно-Алтая, чем в последующее время. Видимо, в VI-VII вв. население Минусинской котловины, генетически связанное с таштыкцами, еще сохраняло известную обособленность от остальных районов тюркского мира. По этой же причине памятники енисейских кыргызов VII-VIII вв., синхронные катандинскому этапу, на территории Минусинской котловины не выделяются в самостоятельную
(81/82)
группу погребений. Здесь продолжает развиваться традиционная культура ранних чаа-тасов, мало подверженная различного рода инновациям.
С начала VIII в. (копёнский этап по периодизации Л.Р. Кызласова) в культуре енисейских кыргызов происходят существенные изменения. Появляется целый ряд вещей, ранее не ветрен чавшихся в Минусинской котловине, — поясные бляхи-оправы и ременные наконечники (табл. V, 3-5), тройники с вырезными лопастями (табл. V, 19) и уздечные бляшки с фестончатым краем (табл. V, 14), крупные сердцевидные бляхи-решмы (табл. V, 9, 10) и подпружные пряжки с язычком на вертлюге (табл. V,20), стремена с высокой пластинчатой дужкой (табл. V, 16, 17) и двукольчатые удила с эсовидными псалиями (табл. V, 1, 8). Большая их часть прямо сопоставима с курайскими. Из числа предметов, включённых Л.Р. Кызласовым в хронологический ряд VIII — первой половины IX вв. (Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981, рис. 28), следует исключить вещи из Уйбатского чаа-таса (№ 2, 17, 24, 43), относящиеся к более позднему времени.
На копёнском этапе развития культуры енисейских кыргызов значительно усложняется картина погребальной обрядности. Появляются подкурганные трупосожжения (Капчалы I), причём отдельные происходящие из них вещи, главным образом предметы конского снаряжения (стремена, удила и псалии), идентичны найденным в расположенных рядом погребениях с конём (Капчалы II), предметный комплекс которых, возможно, и явился источником этих заимствований (Левашова, 1952, рис. 1, 5). В чаа-тасах делаются «тайники», куда помещаются наиболее ценные вещи. Под одним сооружением располагается несколько могил. Часто встречаются необожжённые человеческие кости, относящиеся к каким-то сопроводительным захоронениям.
Копёнский чаа-тас. Особо следует остановиться на погребениях знаменитого Копёнского чаа-таса, исследованного Л.А. Евтюховой и С.В. Киселёвым в 1939 г. (Евтюхова, Киселёв, 1940; Евтюхова, 1948, с. 30-53; Киселёв, 1951, с. 583-587). А.А. Гаврилова по аналогии с курайскими курганами на Алтае высказала предположение о том, что основные (ограбленные) захоронения здесь были совершены по обряду трупоположения, а «тайники» представляют собой помещённый таким образом инвентарь сопроводительных трупосожжений. По записанным Г.Ф. Миллером рассказам бугровщиков, ограбивших Копёнский чаа-тас, основные захоронения здесь были совершены по обряду трупоположения, что подтверждается отдельными находками человеческих костей (Гаврилова, 1965, с. 65—66). О том, что по обряду трупоположения не были похоронены, как считала Л.А. Евтюхова, «рабы или слуги, сопровождающие покойника» (Евтюхова, 1948, с. 33), свидетельствуют некоторые вещи,
(82/83)
оставленные грабителями, в частности золотая серьга с привеской в виде грозди винограда VIII-IX вв. из кург. 5 (Евтюхова, Киселёв, 1940, рис. 3). Вывод А.А. Гавриловой о том, что «это были погребения вождя и его дружинников» (Гаврилова, 1965, с. 66), тем более интересен, что именно такая форма захоронения — подкурганные трупосожжения с помещёнными отдельно, «кучкой» предметами сопроводительного инвентаря — станет одним из наиболее распространённых видов погребений кыргызских воинов в IX-X вв.
Погребения Копёнского чаа-таса относятся ко времени расцвета культуры енисейских кыргызов в Минусинской котловине. Для одного из них (кург. 2) Б. И. Маршаком на основании анализа орнаментальных композиций на золотых сосудах была установлена дата «около середины или даже второй половины IX в». (Маршак, 1971, с. 55-56). Следует добавить, что ни в одном кыргызском памятнике не ощущается столь сильное, как в Копёнах II, влияние танского искусства (изображения драконов, фениксов, гусей со сплетенными шеями и т.д.). Такое распространение восточных мотивов могло иметь место только в период завершения кыргызско-уйгурских войн, вызвавших усиленный интерес к енисейским кыргызам со стороны танской династии, т.е. в середине IX в. Вместе с тем вряд ли можно предполагать большую разницу во времени сооружения кург. 2 и других захоронений Копёнского чаа-таса и датировать его позднее середины IX в., так как в данном случае следует ожидать аналогии копёнским материалам в кыргызских погребениях Тувы, Алтая и Восточного Казахстана, а этого не наблюдается.
Материалы Копёнского чаа-таса отчетливо показывают социальную дифференциацию кыргызского общества. Найденные здесь предметы — золотые блюда и сосуды с руническими надписями и роскошным накладным орнаментом, бронзовые рельефы с изображениями всадников и животных в сценах охоты, детали поясных и сбруйных наборов, сплошь покрытые растительным орнаментом и зооморфными композициями — представляют гордость средневековой сибирской археологии. Значение копёнских находок тем более велико, что, но мнению А.А. Гавриловой, они происходят не из основных, а из сопроводительных дружинных захоронений. Можно предполагать, что усложнение социальной структуры государства кыргызов должно было повлечь за собой изменения в военной организации, всё более укреплявшейся для предстоящей войны с уйгурами. Специально исследовавший вопрос о военной организации еннсейcких кыргызов Ю.С. Худяков также пришел к выводу, что, «поскольку инициатива в войне с уйгурами исходила от кыргызов, вполне вероятно, что её объявлению предшествовала основательная подготовка, в том числе укрепление центральной административной и военной власти» (Худяков, 1980, с. 138-139).
Глава III. Тюркское время
3. Уйгуры (с. 84-88)
Образование Уйгурского каганата в 745 г. явилось результатом многовековой борьбы телеских племен, в первую очередь уйгуров, за политическую независимость, доминирующую роль в центральноазиатских этносоциальных объединениях и создание собственной государственности. Реальное воплощение этих тенденций, уходящих корнями ещё в динлинскую древность теле, стало возможно после гибели Второго тюркского каганата, которой немало способствовали уйгуры и другие союзные с ними телеские племена. Как и все средневековые государства Центральной Азии, Уйгурский каганат был сложным полиэтническим объединением, в состав которого помимо собственно уйгуров (токуз-огузов с правящей династией Яглакар) входило большинство телеских племен (пугу, хунь, байырку, тонгра, сыге, киби), а также в определенные периоды их истории другие покоренные уйгурами народы — татары, кидани, басмалы, карлуки и чики. Главным противником уйгуров на севере Центральной Азии стали енисейские кыргызы, борьба с которыми, по-видимому, не прекращалась на протяжении всех 95 лет существования Уйгурского каганата (Малявкин, 1974; 1983, с. 19-29).
Уйгуры и енисейские кыргызы. В истории взаимоотношений между енисейскими кыргызами и уйгурами во второй половине VIII — первой половине IX в. можно наметить три периода.
Первый период — утверждение господства уйгуров на севере Центральной Азии. В 750 г. уйгуры разбили чиков, присоединили к своим владениям территорию современной Тувы и провели северную границу государства по южным склонам Западных Саян. Об этом рассказывает открытая недавно в Монголии Терхинская надпись (Кляшторный, 1980, с. 87-90). В 751 г. кыргызы в союзе с чиками и другими местными племенами образовали аитиуйгурскую коалицию, однако каган Моюн-чур (Боян-чор), опередив союзников, ещё раз разбил чиков, затем карлуков и военные отряды кыргызов. Эти события нашли отражение в надписях знаменитого «Селенгинского камня» (памятник Моюн-чура) на р. Селенге в Северной Монголии (Малов, 1959, с. 38-43). В 758 г. уйгуры завоевали государство енисейских кыргызов, и «хагасский владетель» получил от уйгурского кагана титул хана (Бичурин, 1950, с. 355). Однако, по мнению Л.Р. Кызласова, подчинение кыргызов было номинальным, так как «управителем в древнем государстве хакасов (кыргызов. — Д.С.) остался все тот же хан, получивший на это право (очевидно, ценою откупа в виде дани) вместе со специальным титулом от Моюн-чура» (Кызласов, 1969, с. 58).
Второй период — известная стабилизация отношений, вызванная равновесием сил — позиционная война. О том, как она проходила, можно судить по следующей ситуации. В источниках говорится, что «сие государство (енисейских кыргызов. — Д.С.) (84/85) было всегда в дружественных связях с Даши (Средняя Азия — Д.С.), Туфанию (Тибет. — Д.С.) и Гэлолу (карлуки на Западном Алтае. — Д.С.), но туфаньцы при сообщении с Хягасом (страной енисейских кыргызов. — Д.С.) боялись грабежей со стороны хойху (уйгуров. — Д.С.), вот почему брали провожатых из Гэлолу» (Бичурин, 1950, с. 355). Приведенный отрывок чётко показывает расстановку политических сил в Центральной Азии во второй половине VIII в. — связи енисейских кыргызов с карлуками, помощью которых пользовались и тибетцы; враждебные действия по отношению, к ним уйгуров, через чью территорию проходили караванные пути, соединяющие страну енисейских кыргызов и Тибет. Из контекста источника следует, что кыргызско-тибетские связи, несмотря на препятствия со стороны уйгуров, развивались успешно. Здесь же говорится о том, что из Средней Азии каждые три года приходил караван из двадцати верблюдов «с узорчатыми шёлковыми тканями». Все это не могло не способствовать усилению государства енисейских кыргызов, что подтверждается и приведёнными выше археологическими материалами.
Третий период — утверждение господства енисейских кыргызов, кыргызско-уйгурские войны и победа енисейских кыргызов над уйгурами. В 795 г. прекратила свое существование уйгурская правящая династия Яглакар, и в Уйгурском каганате наступила пора междоусобиц. «Поразительный факт в истории дома хойху (уйгуров. — Д.С.), — отмечал Д. Позднеев, — заключался в том, что по прекращении на его троне дома Иологэ (Яглакар. — Д.С.) в 795 г. почти ни один хан не правил больше 3-4 лет», (Позднеев, 1899, с. 95). В 820 г. кыргызский Ажо впервые без каких-либо санкций со стороны правителей других государств объявил себя каганом. Как отмечает Л.Н. Гумилев, «мать его была тюргешской княжной, а жена — дочерью тибетского полководца, следовательно, и с теми и с другими у него были родственные связи» (Гумилев, 1967, с. 429). В том же году уйгурский каган Бао-и начал войну против енисейских кыргызов — «послал министра с войском, но сей не имел успеха» (Бичурин, 1950, с. 355). Война продолжалась двадцать лет.
История кыргызско-уйгурских войн уже рассматривалась в литературе, ей посвящены специальные исследования. В одном из них по имеющимся памятникам Саянского каньона Енисея и Тувы было сделано предположение о трех этапах уйгуро-хакасских (кыргызских. — Д.С.) войн: 1) конец 20-х годов, 2) 30-е годы, 3) конец 30-х годов — до выхода енисейских кыргызов на территорию Монголии (Кызласов И., 1979, с. 290). В конце уйгуро-кыргызских войн кыргызский Ажо писал уйгурскому кагану: «Твоя судьба кончилась. Я скоро возьму золотую твою орду, поставлю перед ней своего коня, водружу мое знамя» (Бичурин, 1950, с. 355). В 840 г., пользуясь изменой уйгурского военачальника Цзюйлу Мохэ, вызвавшего нападение кыргыз-(85/86)ской конницы на столицу уйгуров г. Орду-Балык, енисейские кыргызы сокрушили Уйгурский каганат и захватили власть а Центральной Азии. Начался период «кыргызского великодержавия».
Падение Уйгурского каганата не было следствием только нашествия енисейских кыргызов, а явилось результатом целого ряда причин как внутренних, так и внешних. К внутренним причинам могут быть отнесены: разложение элиты уйгурского общества; стихийные бедствия 839 г., когда «был голод, а вслед за ним открылась моровая язва, отчего много пало овец и лошадей» (Бичурин, 1950, с. 334); присоединение уйгурами территории современной Тувы, до этого занимавшей своеобразное буферное положение между государствами Центральной Азии и Южной Сибири. Внешние причины заключались в политике танского правительства, воспользовавшегося силами уйгуров для подавления восстания Ань-Лушаня (Малявкин, 1975), возросшей силе енисейских кыргызов и заинтересованной политике Тибета, установившего договорные отношения с енисейскими кыргызами ещё в начале VIII в., в результате чего кочевья уйгуров оказались зажаты между территориями союзных государств.
Археологические памятники уйгуров. Несмотря на то, что Уйгурский каганат просуществовал дольше других центральноазиатских государственных объединений, конкретно об этнокультурной истории населения Уйгурского каганата известно очень мало. Объясняется это в первую очередь слабой степенью изученности археологических памятников, которые могут быть связаны с уйгурами. Наибольшее их количество исследовано в Туве. Это уйгурские городища и катакомбные погребения типа могильника Чааты I.
Сведения о сооружении уйгурских городов на р. Кем (Енисее) имеются в письменных источниках. В памятнике Моюн-чура говорится: «Там я распорядился устроить свой беловатый лагерь и дворец [с престолом], там я заставил построить крепостные стены [заборы], там я провел лето, и там я устраивал моления высшим божествам (?). Мои знаки [тамги] и мои письмена я там приказал сочинить и врезать в камень» (Малов, 1959, с. 40). В настоящее время исследовано большое количество уйгурских городищ и крепостей, культурная принадлежность которых была определена С.И. Вайнштейном (Вайнштейн, 1958, с. 227-229; 1959; Кызласов, 1969, с. 59-63; 1979, с. 145-158). По наблюдению Л.Р. Кызласова, «уйгурские городища расположены стратегически продуманно, по одной дугообразной линии, обращённой выпуклостью к северу, в сторону Саянского хребта, прикрывая центральные, наиболее плодородные районы Тувы от возможного вторжения северных соседей — древних хакасов (кыргызов. — Д.С.)» (Кызласов, 1969, с. 59). К сожалению, материал из уйгурских городищ, представ-
(86/87)
ляющнх не городища в полном смысле этого слова, а скорее оборонительные сооружения на случай военной опасности, недостаточно выразителен. Это фрагменты керамики, зернотёрки, отдельные металлические орудия и костяные поделки, имеющие достаточно широкий круг аналогий.
Значительно больший интерес представляют материалы катакомбных погребений, в первую очередь могильника Чааты I, исследованного С.А. Теплоуховым и Л.Р. Кызласовым (Кызласов, 1969, с. 65-78; 1979, с. 158-188). В них своеобразно всё — сама катакомбная форма погребений, не характерная для средневековых памятников Южной Сибири; керамика, по формам и приёмам орнаментации воспроизводящая образцы керамики хуннского времени; уплощённые ланцетовидные наконечники стрел; железные клёпаные котлы с вертикальными и горизонтальными ручками; конструкция лука с концевыми и срединными накладками, а также фронтальной пластиной-вкладышем с расширяющимися концами хуннского типа. В комплекс элементов культуры уйгуров в Туве, выделенный Л.Р. Кызласовым, входят развитая градостроительная архитектура, производство «уйгурских ваз», лук определённой конструкции, котлы, наконечники стрел, каменные изваяния с сосудом в двух руках, относящиеся к VIII-IX вв. Без каких-либо дополнений они были воспроизведены при характеристике культуры кочевых уйгуров Д.И. Тихоновым (Тихонов, 1978). Средневековый возраст тувинских катакомбных погребений доказан Л.Р. Кызласовым достаточно убедительно. Вместе с тем Л.Р. Кызласов отметил глубокую, очевидно, принесенную из Северной Монголии н Забайкалья, хуннскую традицию в материалах тувинских погребений (форма, орнамент и технические приёмы изготовления керамики; конструкция сложного лука), что, по его мнению, «свидетельствует о глубоких центральноазиатских корнях уйгурской культуры» (Кызласов, 1969, с. 75).
Преемственность культуры уйгуров Тувы с культурной традицией хуннского времени несомненна, что соответствует указанию письменных источников о том, что «предки дома ойхор (хойху, т. е. уйгуров. — Д.С.) были гунны» (Бичурин, 1950, с. 301), и подтверждается общей территорией расселения хуннов и уйгуров на р. Селенге. Вместе с тем особенности катакомбных погребений в Туве ставят ряд вопросов, на которые в настоящее время ответить трудно. Найденные здесь предметы не имеют ничего общего ни с изображениями на уйгурских росписях из Турфана, ни с реалиями тувинских изваяний так называемой «уйгурской» группы, а сам обряд захоронения (в катакомбах) не соответствует описанию погребального обряда уйгуров в письменных источниках. На этом основании А.А. Гаврилова высказала сомнение в уйгурской принадлежности катакомбных погребений в Туве (Гаврилова, 1974, с. 180). Раскопки в Орду-Балыке, столице уйгуров, дали керамику по (87/88) характеру орнаментации в целом отличную от тувинской, но имеющую с ней и некоторые общие элементы, например ромбические узоры (Худяков, Цэвээндорж, 1982, рис. 5). Фрагменты керамики типа орду-балыкской с вписанными полукружиями были найдены на Орхоне (Орхон-Дель, кург. 5) в погребении с трупоположением, северо-западной ориентировкой и сопроводительным захоронением шкуры коня. Л.А. Евтюхова считала возможным относить данное погребение к уйгурам (Евтюхова, 1957, с. 222-223). В таком случае, отмечает Ю.С. Худяков, «не исключена вероятность, что погребения со шкурой коня в Монголии и Южной Сибири, а также инвентарём конца I тыс. н. э. и керамикой, напоминающей орду-балыкскую, оставлены уйгурами», а тувинские катакомбные захоронения «оставило население, находившееся в подчинении у уйгуров, но отличавшееся от них в этническом отношении» (Худяков, Цэвээндорж, 1982, с. 93-94). Последнее предположение вполне вероятно, но оно не противоречит принадлежности тувинских погребений уйгурам в широком, этнокультурном значении термина.
Значение уйгурского периода в этнической истории народов Южной Сибири ещё до конца не оценено исследователями. Между тем материалы духовной культуры свидетельствуют, что уйгуры сыграли весьма значительную роль в формировании мировоззрения и культуры населения Саяно-Алтайского нагорья (Потапов, 1978; 1981). С распадением Уйгурского каганата связаны два важнейших события в истории народов севера Центральной Азии — широкое расселение енисейских кыргызов в середине IX в. и сложение кимако-кыпчакского государственного объединения на Иртыше.
Глава IV. Позднетюркское время 1. «Кыргызское великодержавие» (с. 89-103)
В 840 г. енисейские кыргызы, победив уйгуров, перевалили через Саяны и вышли на просторы Центральной Азии. Впервые народ северного происхождения, создавший высокую культуру в бассейне Среднего Енисея, стал играть решающую роль в делах своих южных соседей. Вслед за отступающими уйгурами кыргызы занимают ряд районов Центральной Азии — Монголию, Джунгарию, Восточный Туркестан. Ставка кыргызского Ажо была перенесена в Северо-Западную Монголию, южнее гор Думань (Танну-Ола), «в 15 днях конной езды от прежнего хойхуского (уйгурского. — Д.С.) стойбища» (Бичурин, 1950, с. 356). В 841-842 гг. ими были захвачены крупные города Восточного Туркестана — Бешбалык и Куча, в 843 г. — Аньси и Бэйтин (Кызласов, 1969, с. 94-95). Ярким подтверждением вторжения кыргызов в оазисы Восточного Туркестана является «легендарная сцена» из Кум-Тура с изображением нападения кыргызских воинов в пластинчатых панцирях на «горожанина в его собственном доме», скорее всего уйгура (Худяков, 1979а). В 847-848 гг. экспансия енисейских кыргызов была направлена в сторону Забайкалья, на восток, против племён шивэй, у которых укрылись остатки разгромленных уйгуров.
В результате завоеваний кыргызов во второй половине IX в. границы их расселения охватили территорию от верховьев Амура на востоке до восточных склонов Тянь-Шаня на западе. Родина енисейских кыргызов — Минусинская котловина постепенно становится самой северной окраиной обширного государства. Это соответствует указанию Таншу о том, что «Хягас было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владениям (очевидно, имеются в виду границы Второго тюркского каганата. — Д.С.). На восток простиралось до Гулигани (страна курыкан в Прибайкалье. — Д.С.), на юг — до Тибета (в данном случае Восточный Туркестан. — Д.С.), на юго-запад — до
(89/90)
Гэлолу (страна карлуков, в VIII в. переселившихся в Семиречье. — Д.С.)» (Бичурин, 1950, с. 354). По сведениям анонимного автора «Худуд-ал-Алам», в начале X в. столица государства енисейских кыргызов была перенесена в г. Кемиджкет в Центральной Туве («Материалы по истории киргизов и Киргизии», 1973, с. 41; Кызласов, 1969, с. 96).
По всей обширной территории расселения енисейских кыргызов их археологические памятники представлены неравномерно. Материалы, полученные в результате многолетних исследований, позволяют выделить во второй половине IX-X вв. по крайней мере пять локальных вариантов культуры енисейских кыргызов — тувинский, алтайский, восточноказахстанский, минусинский и красноярско-канский. Все погребения енисейских кыргызов IX-X вв. совершены по обряду трупосожжения, что на данном этапе изучения можно рассматривать как этнический признак данной культуры по всей территории её распространения.
Тувинский вариант. Наибольшее количество кыргызских погребений по обряду трупосожжения исследовано в Туве. По данным Г. В. Длужневской, здесь «насчитывается около 290 погребальных и поминальных сооружений, ритуальных выкладок и «меморативных» курганов, относящихся к этому (IX-X вв.— Д. С) времени» (Длужневская, 1982а, с. 126), что значительно превышает их количество как в метрополии енисейских кыргызов — Минусинской котловине, так и во всех остальных районах расселения в период «кыргызского великодержавия». Очевидно, основная масса кыргызского населения, во всяком случае начиная с X в., была сосредоточена на территории Тувы, где находилась столица кыргызского государства.
По своим конструктивным особенностям кыргызские погребения в Туве могут быть разделены на несколько типологических вариантов: 1) подкурганные захоронения в неглубоких могильных ямах или на горизонте с «тайниками», 2) юртообразные сооружения из горизонтально положенных плиток с остатками захоронений в неглубоких ямках; 3) «пустые» курганы, возможно, кенотафы, не содержащие остатков захоронений (Кызласов, 1969, с. 97-98; 1981, с. 55; Нечаева, 1966, с. 137-142; Длужневская, Овчинникова, 1980, с. 88-89). Иногда встречаются коллективные (до 3 человек) трупосожжения кыргызских воинов с соответствующим комплектом предметов сопроводительного инвентаря (Нечаева, 1966, с. 108-120; Маннай-Оол, 1968, с. 324-328). В некоторых случаях погребения обставлены вертикально вкопанными плитками, а сами курганы — обломками горных пород, что можно рассматривать как сохранение конструктивных особенностей минусинских чаа-тасов. С той же традицией связаны обычай сооружения стенок из горизонтально положенных плиток и устройство «тайников» с наиболее ценными вещами. Однако точных повторений минусин-
(90/91)
ских чаа-тасов нигде, в том числе в Туве, неизвестно. Объясняться это может по-разному: нарушением этнической традиции в связи со сменой политической ситуации в Центральной Азии; специфическим характером тувинских погребений, представляющих главным образом захоронения воинов; отсутствием подходящего строительного материала; этнокультурными процессами, происходившими в условиях иноэтнического окружения в среде самих енисейских кыргызов на местах их нового расселения.
Из всего многообразия памятников енисейских кыргызов в Туве опубликованы материалы лишь нескольких могильников, из которых наиболее интересны Шанчиг (Кызласов, 1969, рис. 28-40; 1978), Тора-Тал-Арты (Нечаева, 1966), Хемчик-Бом II (Длужневская, Овчинникова, 1980, с. 88-91), Каа-Хем (Маннай-оол, 1968, с. 324-328), Саглы-Бажи I и Кюзленги II (Грач, 1980) и некоторые другие. Многочисленные находки из погребений этих могильников позволяют достаточно полно представить себе облик материальной культуры кыргызов на территории Тувы. Наряду с вещами общераспространённых форм (детали поясных наборов, пряжки с язычком на вертлюге, панцирные пластины, топоры-тёсла, двукольчатые удила, эсовидные псалии, трёхпёрые и плоские ромбические наконечники стрел) в них представлены предметы, характеризующие культуру собственно енисейских кыргызов IX-X вв.: стремена с петельчатой приплюснутой дужкой и прорезной подножкой, витые удила с «8»-образным окончанием звеньев с кольцами, расположенными в различных плоскостях, трёхпёрые наконечники стрел с пирамидально оформленной верхней частью и серповидными прорезями в лопастях, эсовидные псалии с зооморфными окончаниями в виде головок горных баранов или козлов, различных типов бронебойные наконечники стрел, круглые распределители ремней, гладкие лировидные подвески с сердцевидной прорезью, поясные и сбруйные наборы со сложной системой орнаментации (растительный, «цветочный», «пламевидный» орнаменты и др.). Подобный комплекс вещей, который может быть назван кыргызским (табл. VI, 2, 4, 5, 9, 10-12, 16, 17, 23), наряду с обрядом трупосожжения является опорным при определении памятников енисейских кыргызов и в других районах их расселения в IX-X вв.
В настоящее время до полной публикации материала и его специального исследования трудно отделить в Туве памятники второй половины IX в. — периода наибольшей экспансии енисейских кыргызов от памятников X в. — периода постепенного сокращения их государственных границ. Думается, что наряду с типологическим анализом погребального обряда и предметов сопроводительного инвентаря также должно быть учтено и географическое положение памятника в зависимости от того или иного периода кыргызской экспансии. Возможно, более ранними
(91/92)
в ряду тувинских захоронений по обряду трупосожжения являются погребения с «юртообразными» надмогильными сооружениями из горизонтально положенных плиток, типологически стоящие ближе к минусинским чаа-тасам. В одном из них (могильник Хемчик-Бом II в Саянском каньоне Енисея) были найдены ажурные бляхи-оправы с фигурками стоящих друг против друга петушков (табл. VI, 2), композиционно повторяющие изображения фениксов на копёнском блюде (Длужневская, Овчинникова, 1980, рис. 2). Возможно, к концу IX в. относятся своеобразные по составу предметов сопроводительного инвентаря погребения с трупосожжениями на могильнике Саглы-Бажи I и Кюзленги II (Южная Тува). По мнению А.Д. Грача, они «отражают одну из максимальных фаз экспансии кыргызов за Саяны... Эти памятники были сооружены уже тогда, когда кыргызы полностью сломили сопротивление уйгуров, завладели территориями Тувы и Монголии и стали на некоторое время хозяевами Центральной Азии» (Грач, 1980, с. 118). В одном из них (Саглы-Бажи I, кург. 16) были найдены фрагменты бересты с тибетскими надписями охранительного характера — ещё одно свидетельство существования этнокультурных связей между енисейскими кыргызами и Тибетом (Грач, 1980, с. 119-121). Более поздними (X в.) являются подкурганные погребения типа Тора-Тал-Арты и Каа-Хем, в которых найдены остатки трупосожжений нескольких человек, точно так же как в наиболее крупном могильнике XI в. Эйлиг-Хем III в Центральной Туве. Из этих погребений происходят стремена с пластинчатой дужкой и прорезной подножкой, псалии с раскованными и декоративно оформленными концами, детали поясных наборов и пряжки, покрытые золотым или серебряным листком, наиболее характерные для начала II тыс. н.э.
Пребывание кыргызов на территории Тувы помимо погребений по обряду трупосожжения отмечено также эпиграфическими находками (рунические надписи на скалах и стелах), тамгами, оросительными системами, около которых раскопаны курганы енисейских кыргызов (Длужневская, 1982а, с. 124-126).
Алтайский вариант. На Горном Алтае памятников енисейских кыргызов известно значительно меньше. Среди них необходимо отметить два кургана с обрядом трупосожжения и характерным для IX-X вв. набором предметов сопроводительного инвентаря (палаши, удила с «8»-образными кольцами и эсовидными псалиями с «сапожком», наконечники стрел и др.) в Яконуре (Грязнов, 1940, с. 18). В одном из них (кург. 1, мог. Е-Ф) находились остатки сожжений нескольких человек, как например в Тора-Тал-Арты, кург. 4; в другом (кург. 4) найден начельник на слегка изогнутой орнаментированной пластине, возможно, несколько более поздний, чем из кургана 12 могильника Шанчиг (Кызласов, 1978, рис. 6).
Ещё одно погребение с трупосожжением было раскопано
(92/93)
нами в 1972 г. на могильнике Узунтал VIII в Сайлюгемской степи (Савинов, 1980). Под округлым каменным курганом из мелкоколотых плит здесь были найдены остатки трупосожжения (уголь, пепел, кальцинированные кости) и среди них два стремени с приплюснутой петельчатой дужкой, однокольчатые удила с продолговатыми внешними петлями, железные кольца, круглая пряжка с подвижным язычком, нож, проколка и набор бронзовых украшений, состоящий из витой проволочной гривны с головками драконов на концах, пирамидки из двух конусов, украшенных зернью и инкрустированных голубым камнем (лазурит?), сильно метаморфизированным после пребывания в огне погребального костра. Подобного рода украшение — пирамидка — было найдено А.В. Адриановым в чаа-тасе на оз. Кызыл-Куль в Минусинской котловине (Евтюхова, 1948, рис. 17). Особый интерес представляет бронзовая проволочная гривна с изображением голов драконов. Литые головки драконов выполнены рельефно — с круглым глазом, прижатыми ушами, разинутой пастью, с широко разведенными губами, между которыми зажато кольцо (солнце?). Более всего эта геральдическая композиция напоминает изображение свисающих головок драконов на известной ажурной седельной бляхе (табл. V, 2) из кург. 6 Копёнского чаа-таса (Евтюхова, Киселев, 1940, рис. 36). Время сооружения узунтальского погребения по относительно поздней форме удил с продолговатыми внешними петлями может быть определено X в.
Все погребения енисейских кыргызов на Горном Алтае — подкурганные, без каких-либо конструктивных элементов, напоминающих сооружения типа чаа-тас. В отличие от Тувы они не образуют культурной целостности, что, вероятно, объясняется немногочисленностью находившегося здесь кыргызского населения, вступившего в близкие контакты с алтае-телескими тюрками. Это подтверждается руническими надписями из Мендур-Соккона, в одной из которых сказано: «Он тюрк...», а в другой: — «Мой старший брат... герой и знаменитый киргиз» (Баскаков, 1966, с. 80-81). Как далеко на север Горного Алтая проникли енисейские кыргызы — сказать трудно. Очень интересные материалы из старых раскопок К. Ледебура на р. Чарыше (Уманский, 1964, табл. XII) ближе к сросткинской культуре, чем к культуре енисейских кыргызов.
На Западном Алтае погребения с трупосожжениями открыты па могильнике Карболиха VIII. По мнению авторов раскопок, «тут был похоронен древнехакасский (кыргызский. — Д.С.) воин, попавший сюда в период экспансии енисейских кыргызов в IX-X вв. Пришлые кыргызы-завоеватели, очевидно, вскоре стали смешиваться с местными кимаками» (Медникова, Могильников, Суразаков, 1976, с. 262).
Восточноказахстанский вариант. Очень близкие кыргызским как по обряду погребения (подкурганные трупосожжения на
(93/94)
уровне древней поверхности), так и по предметам сопроводительного инвентаря (стремена с прорезной подножкой, палаш, лировидные подвески с сердцевидной прорезью, детали поясных наборов, наконечники стрел, тройники, витые «8»-образные удила и т. д.) захоронения открыты в Восточном Казахстане в составе Зевакинского могильника на Иртыше (Арсланова, 1972). По всем признакам, отмечает Ф.X. Арсланова, «рассмотренные курганы наиболее близки к погребениям в Туве, относящимся к древним хакасам (кыргызам. — Д.С.). Такая близость свидетельствует, по-видимому, о культурном и этническом взаимовлиянии племён, оставивших памятники в Туве и Верхнем Прииртышье» (Арсланова, 1972, с. 75). Хотелось бы вместе с тем отметить, что зевакинские погребения отличаются и некоторым своеобразием: в них найдены кости лошадей, скорее всего относящиеся к сопроводительным конским захоронениям; керамика, отличная от кыргызской; кроме того, своеобразный характер носит орнаментация поясных наборов (широко используется мотив «жемчужин» — он ближе известному в предшествующее время в Средней Азии, а не в Южной Сибири). Погребения с трупосожжениями Зевакинского могильника находятся на одном курганном поле с многочисленными кимакскими захоронениями. Очевидно, оставившее его население — кыргызы, но уже «вступившие в непосредственный контакт с аборигенами Верхнего Прииртышья» (Арсланова, 1972, с. 75), причем процессы аккультурации, отражённые в зевакинских материалах, безусловно были более или менее длительными.
В южных и юго-западных районах экспансии енисейских кыргызов материалов, связанных с ними, известно очень мало. Можно отметить типологически близкий кыргызскому комплекс предметов сопроводительного инвентаря из разрушенного погребения в Джунгарском Алатау около г. Текели (Агеева, Джусупов, 1963). Пребывание енисейских кыргызов в Монголии зафиксировано известной Суджинской надписью, установленной в честь кыргызского судьи Бойла (Малов, 1951, с. 77). Известны здесь и отдельные, правда невыразительные, погребения по обряду трупосожжения этого времени (Боровка, 1927, с. 67). В Восточном Туркестане памятников енисейских кыргызов пока не обнаружено, что, скорее всего, объясняется слабой степенью изученности данной территории в археологическом отношении.
Минусинский вариант. Материалы из кыргызских курганов Тувы, Горного Алтая и Восточного Казахстана, которые по принципу terminus post quem, имея в виду опорную дату 840 г., датируются второй половиной IX-X вв., служат основанием для датировки синхронных погребений на территории Среднего Енисея. К этому времени относятся большие курганы Уйбатского чаа-таса, завершающие традицию сооружения минусинских чаа-тасов (Евтюхова, 1938, с. 118-120), погребения с трупосожжениями могильника Капчалы II (Левашова, 1952, с. 129,
(94/95)
рис. 5), курганы около г. Минусинска (Николаев, 1972), могила «Над поляной» (Гаврилова, 1968; 1974) и часть вещей Тюхтятского клада (Евтюхова, 1948, с. 67-72; Киселёв, 1951, табл. XI-XIII).
С.В. Киселёв и Л.А. Евтюхова считали Тюхтятский клад одновременным собранием и датировали его IX-X вв. А.А. Гаврилова рассматривает его как разновременный комплекс и отмечает, что «этот клад нуждается в специальном изучении для уточнения датировки входящих в его состав вещей» (Гаврилова, 1965, с. 64). Л.Г. Нечаева по аналогии с кург. 4 могильника Тора-Тал-Арты поставила вопрос иначе — не следует ли рассматривать его «как погребение с трупосожжением нескольких человек?» (Нечаева, 1966, с. 120). Правильнее всего к оценке данного памятника подошла А.А. Гаврилова, так как в состав клада входят не только разностильные бляшки — по крайней мере от 20 поясных и сбруйных наборов, но и вещи разновременные в пределах IX-XII вв. В основном они относятся к IX-X вв. (стремя с прорезной подножкой, «т»-видные тройники, детали сбруйных наборов, различного рода украшения, пряжка с язычком на вертлюге и др.), но некоторые предметы, например шарнирные подвесные бляхи с геометрическим орнаментом (Евтюхова, 1948, рис. 133), датируются более поздним временем. Поэтому вряд ли целесообразно объединять памятники енисейских кыргызов IX-X вв. по всей территории их распространения под общим названием Тюхтятской культуры.
В кург. 5 могильника Капчалы II найдены бронебойные и крупные трехлопастные наконечники стрел с, серповидными прорезями, аналогичные тувинским типа Шанчиг (Левашова, 1952, рис. 5). Из курганов, раскопанных около Минусинска, происходят палаш с напускным перекрестием, витые удила с «8»-образными кольцами, петельчатое стремя с прорезной подножкой, наконечники стрел с пирамидально оформленной верхней частью и круглыми отверстиями в лопастях, костяные изогнутые ножи, типологически близкие железным кинжалам «уйбатского типа» (Николаев, 1972, рис. 5-7).
В разграбленном кыргызском могильнике «Над поляной» в числе других вещей были найдены бронзовая чаша с циркульным орнаментом н позолоченная чарка среднеазиатского или турфанского происхождения с гравированными изображениями различных животных и уйгурской надписью: «Держа сверкающую чашу, я сполна (или: я, Толыг) обрел счастье». А.А. Гаврилова датирует эту находку концом IX — началом X в. (Гаврилова, 1968, с. 28); Б.И. Маршак — IX-X вв. (Маршак, 1971, с. 17, прим. 7); А.М. Щербак — не позднее XI в. (Щербак, 1968, с. 32). Помимо приведенных авторами датирующих признаков следует отметить изображение бабочки (или пчёлы) на ручке, имеющее аналогии в украшениях сбруйных наборов из Курая (Евтюхова, Киселёв, 1941, рис. 60-61), и на керамике
(95/96)
времени династии Восточное Ляо (Внржин, 1960, рис. 8). Это позволяет согласиться с датировкой, предложенной А.А. Гавриловой, и рассматривать данную находку в качестве трофея, взятого енисейскими кыргызами во время походов в Восточный Туркестан.
Особое значение имеет датировка больших курганов Уйбатского чаа-таса, которые рассматривались в одном ряду с другими минусинскими чаа-тасами. По Л.А. Евтюховой, они представляют собой 2-й тип погребений VII-VIII вв. (Евтюхова, 1948, с. 18-30), по Л.Р. Кызласову, относятся к копёнскому этапу культуры чаа-тас, VIII — первая половина IX вв. (Кызласов, 1981, с. 49-50). Вещи из Уйбатского чаа-таса — стремена с прорезной подножкой (табл. VI, 14, 15), плоские наконечники стрел, псалии с фигурными скобами и головками горных баранов (табл. VI, 13), витые удила, знаменитое уйбатское стремя с очень высокой вычурной пластиной и инкрустацией, украшенное мотивами ляоского орнамента (табл. VI, 20) — датируются IX-X вв. Обращает на себя внимание то, что в материалах Уйбатского чаа-таса отсутствуют какие-либо следы влияния танского изобразительного искусства, столь характерные для Копён. В «тайнике» кург. 5 Уйбатского чаа-таса найдена вообще заведомо поздняя вещь — стремя с отверстием для путлища в дужке и круглой подножкой (Евтюхова, 1948, рис. 21), однако исключительность этой находки не дает возможности использовать ее в качестве дополнительного аргумента поздней даты всего комплекса.
Приведенные материалы из Минусинской котловины характеризуют поздний этап культуры енисейских кыргызов, синхронный периоду «кыргызского великодержавия», который по наиболее яркому памятнику типа чаа-тас может быть назван уйбатским этапом, тождественным минусинскому варианту культуры енисейских кыргызов IX-X вв. Число памятников IX-X вв. в Минусинской котловине по сравнению с копёнским этапом незначительно, что, видимо, объясняется переселением значительных масс енисейских кыргызов на территории южных районов Саяно-Алтая и Центральной Азии.
Красноярско-канский вариант. Одновременно отдельные погребения енисейских кыргызов появляются севернее Минусинской котловины. В первую очередь к ним относится известный Ладейский комплекс около Красноярска, откуда происходят витые удила, стремя с прорезной подножкой, зажимы для кистей, сбруйные наборы характерного кыргызского облика (Карцов, 1929, с. 51). В.Г. Карцов относил их к ладейской культура VI-XIII вв. «Вопрос о принадлежности Ладейской культуры той или иной народности, — считал он, — приходится пока оставлять открытым» (Карцов, 1932, с. 48). Интересное захоронение по обряду трупосожжения с кыргызским инвентарем (витые удила, палаш с напускным перекрестием, стремя с петельчатой
(96/97)
приплюснутой дужкой, отдельные сбруйные украшения) было открыто в Большемуртинском районе Красноярского края (Николаев, 1982). Р.В. Николаев предполагает, что «погребение принадлежало воину-кыргызу, участвовавшему в... набеге на таёжные племена Севера» (Николаев, 1982, с. 134).
Таким образом, археологические материалы полностью подтверждают сведения письменных источников о широком расселении енисейских кыргызов в IX-X вв. Яркая оценка данного периода дана Ю.С. Худяковым: «Это был звездный час кыргызской истории, период, справедливо названный В. В. Бартольдом „киргизским великодержавием", время, когда кыргызы смогли подчинить обширные просторы степной Азии, оставить о себе память у многих народов... Интерес к истории кыргызов, благодаря их пребыванию в Центральной Азии, выходит далеко за пределы вопросов этногенеза какого-либо из современных тюркоязычных народов Южной Сибири» (Худяков, 1982, с. 62-63). С завершающим этапом периода «кыргызского великодержавия» связаны два важных и окончательно не решенных вопроса: 1) о возможности переселения енисейских кыргызов (или их части) на Тянь-Шань; 2) о длительности пребывания енисейских кыргызов в Центральной Азии. Эти вопросы взаимосвязаны, и от их решения зависит общая оценка дальнейших судеб кыргызского этноса на территории Средней Азии и Южной Сибири.
Вопрос о переселении енисейских кыргызов на Тянь-Шань. Первая дискуссия по этому поводу развернулась ещё в конце XIX в. между В.В. Радловым, сторонником переселения енисейских кыргызов, и Н.А. Аристовым, сторонником независимого происхождения тянь-шаньских киргизов (Аристов, 1897, с. 121).
B.В. Бартольд, автор первой монографии о кыргызах, не придавал большого значения их переселению с Енисея на Тянь-Шань в период «кыргызского великодержавия» и считал, что главная масса кыргызов переселилась в Семиречье позже. «Если бы кыргызы жили в Семиречье уже в эпоху караханидов, то они несомненно приняли бы ислам в X или XI вв., между тем они ещё в XVI в. считались язычниками», — писал он (Бартольд, 1963, с. 39). Г.Е. Грумм-Гржимайло, признавая бесспорность факта вторжения кыргызов в Восточный Туркестан, одинаково отрицал приведенные точки зрения, но позитивного решения не предложил (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 364-367). Наиболее законченный вид идея о переселении енисейских кыргызов на Тянь-Шань приобрела в работах А.Н. Бернштама. Одновременно продолжала существовать и точка зрения об автономном сложении тянь-шаньских кыргызов. Во многих более поздних работах проводится мысль о том, что этноним кыргыз могли принести на Тянь-Шань племена, прежде входившие в состав государства енисейских кыргызов IX-X вв. Так, C.М. Абрамзон отмечал, что «на территорию современного Кир-
(97/98)
гизстана пришли преимущественно не кыргызы, жившие на Енисее, а некоторые, главным образом тюркоязычные племена, проживавшие ранее в пределах Восточного Притяньшанья, отчасти Прииртышья и Алтая» (Абрамзон, 1971, с. 22). К.И. Петров отводит значительную роль в этом процессе области енисейско-иртышского междуречья, которую считает достаточно обширной, простирающейся от Киргиз-Нура до Красноярска и от верховий Енисея до верховий Иртыша. Здесь до конца XII в., по мнению К.И. Петрова, смешивались кыргызские, кимакские и прибайкальские этнические компоненты, и уже образовавшийся субстрат переселился в XIII в. на Тянь-Шань (Петров, 1960, с. 59-80; 1961, с. 81-105). Точку зрения К.И. Петрова поддержал Е.И. Кычанов (Кычанов, 1963). О. Караев, напротив, по-прежнему отводил значительную роль в процессе формирования тюркоязычного населения на Тянь-Шане енисейским кыргызам (Караев, 1966). Вопрос, по сути дела, до сих пор остается открытым. Лучше всего по этому поводу написал С.М. Абрамзон: «Если в настоящее время давно стала очевидной невозможность отождествления енисейских и тянь-шаньских кыргызов, то столь же очевидна необоснованность полного отрицания и некоторых этногенетических связей между ними» (Абрамзон, 1971, с. 18).
Приведенные выше материалы погребений IX-X вв. в Минусинской котловине, Туве, на Горном Алтае и в Восточном Казахстане как бы связывают в одну цепочку памятники енисейских кыргызов от Среднего Енисея до Верхнего Иртыша и позволяют еще раз возвратиться к вопросу о переселении енисейских кыргызов (или части их) в IX-X вв. на Тянь-Шань.
В своё время одним из аргументов гипотезы А.Н. Бернштама послужило сходство ажурных блях из Кочкорского клада на Тянь-Шане с накладной орнаментацией копёнских сосудов (Бернштам, 1952, с. 89-94). Отдаленная и довольно формальная аналогия вызвала естественные возражения. Как «орнамент кочкорских блях, — писал Я.А. Шер, — так и орнамент посуды, обнаруженной в Копёнах, относятся к широкому кругу орнаментальных мотивов, присущих многим азиатским народам от Ирана до Китая» (Шер, 1963, с. 165). Л.Р. Кызласов также отмечал, что «если бы было передвижение кыргызов с Енисея на Тянь-Шань, то оно бы фиксировалось прежде всего погребениями по обряду трупосожжения... Таких погребений на Тянь-Шане нет» (Кызласов, 1959, с. 108). Их место, по мнению Я.А. Шера, занимают погребения с конём (Шер, 1963, с. 165).
Однако следует иметь в виду, что все известные на Тянь-Шане захоронения с конём датируются VII-VIII вв. (катандинский тип), а достоверных н полных погребальных комплексов IX-X вв. пока вообще неизвестно. Кроме того, судя по алтайским н восточноказахстанским материалам, сама культура енисейских кыргызов при распространении её на запад претерпела
(98/99)
некоторые изменения. Очевидно, кыргызские памятники на Тянь-Шане должны отличаться большим своеобразием, чем алтайские и восточно-казахстанские.
Приведённая А.Н. Бернштамом параллель между кочкорскими н копёнскими орнаментами имеет основание в том смысле, что ажурные изображения были распространены в IX-X вв. и преимущественно в Южной Сибири. В 1965 г. ажурные накладки с изображением различных животных и растительных побегов, чрезвычайно близкие кочкорским, были найдены в погребении IX-X вв. в Центральной Туве — Аргалыкты I, кург. 11 (Трифонов, 1966, с. 25). Такая же накладка с зооморфными и растительными изображениями известна из случайных находок в Минусинской котловине. Они имеют непосредственное отношение к распространению культуры енисейских кыргызов в IX-X вв. Датировка Кочкорского клада IX-X вв. устанавливается достаточно определённо по орнаменту на серебряных изделиях из того же комплекса (Бернштам, 1952, рис. 50), имеющих прямые аналогии в ляоском орнаментальном искусстве (Виржин, 1942, рис. 18; Тори, 1960, рис. 8). На Тянь-Шане, в Чуйской долине и на Иссык-Куле имеются, правда в небольшом количестве, и отдельные вещи — пряжки, детали поясных наборов, лировидные подвески с сердцевидной прорезью, тройники кыргызского облика (Бернштам, 1950, табл. XIV; Плоских, 1981). Время бытования подобных вещей нa Тянь-Шане устанавливается находками на городище Ак-Бешим в одном слое с тюргешскими монетами VIII-IX вв. и псалиями с головками горных козлов уйбатского типа (Кызласов, 1959а, с. 213-217, рис. 44, 45). Если данные вещи сопоставимы, то, возможно, буддийский храм на Ак-Бешиме разрушили енисейские кыргызы, хотя утверждать это, конечно, с достаточной достоверностью нельзя.
В настоящее время трудно судить, насколько указанные параллели могут свидетельствовать о переселении кыргызов на Тянь-Шань. Вообще оно вряд ли имело массовый характер. Но какие-то группы, скорее всего военные отряды енисейских кыргызов, в IX-X вв. проникали на Тянь-Шань и, возможно, явились первыми носителями этнонима «кыргыз». Это не снимает вопроса о формировании тюркоязычного субстрата в этногенезе тянь-шаньских киргизов, которое могло происходить в более позднее время и на более широкой территории.
Вопрос о длительности пребывания кыргызов в Центральной Азии. По поводу длительности пребывания енисейских кыргызов в Центральной Азии в нашей литературе существует несколько точек зрения, авторы которых по-разному датируют рассматриваемые события и соответственно дают им различную интерпретацию. В.В. Бартольд (Бартольд, 1968, с. 103), первым высказавший свое мнение по этому поводу, Л.П. Потапов (Потапов, 1953, с. 99), И.А. Батманов и А.Д. Грач (Батма-
(99/100)
нов, Грач, 1968, с. 122) считают, что кыргызы уже в начале X в. были вытеснены обратно за Саяны монголоязычными киданями. Л. Р. Кызласов и некоторые другие исследователи продлевают время пребывания енисейских кыргызов в Центральной Азии, и в частности в самом северном ее районе — Туве, до монгольского времени (Кызласов, 1969, с. 121-129). Существует и компромиссная точка зрения, согласно которой какая-то часть их оставалась жить в Туве в начале II тыс., но основная масса енисейских кыргызов переселилась в X в. в Минусинскую котловину (Нечаева, 1966, с. 142; Сердобов, 1971, с. 98-111). При этом большинство исследователей исходит из предположения, что отступление енисейских кыргызов на север было вызвано политическими причинами — военными столкновениями с новыми более сильными государственными образованиями киданей, найманов, монголов. По мнению Ю.С. Худякова, «главной причиной кратковременности “кыргызского великодержавия”... было истощение людских ресурсов относительно немногочисленного кыргызского населения в длительной войне и их распыление на обширных территориях» (Худяков, 1980, с. 162). Исключением в данном ряду гипотез является мнение Л.Н. Гумилёва, высказанное в связи с общей характеристикой расселения народов Центральной Азии в начале II тыс.: «Равным образом (как, например, уйгуры и кидани. — Д.С.) не претендовали на степь и кыргызы. Они давно покинули ее и ушли в благодатную Минусинскую котловину, где могли жить оседло, заниматься земледелием, а не кочевать» (Гумилев, 1970, с. 66).
Хронологически первой реальной силой, способной вытеснить кыргызов обратно на Енисей, могли быть кидани, создавшие в 916 г. государство Восточное Ляо. При движении на Запад, в Монголии, кидани уже не встретили кыргызов, и император Амгабань даже предложил уйгурам вернуться на свои прежние земли. В хрониках династии Восточное Ляо ни разу не упоминаются столкновения между киданями и кыргызами в это время, хотя столкновения несомненно должны были бы иметь место, будь последние заинтересованы в сохранении за собой территории Монголии. Больше того, как показывают исследования ляоских купольных гробниц, материальная культура енисейских кыргызов была очень близка культуре киданей, однако вопрос о причинах подобного сходства остается совершенно не исследованным. В начале XII в., по рассказу Джувейни, кидани государства Западное Ляо «подошли к пределам кыргызов; они стали производить набеги на жившие в этих пределах племена; те ответили им такими же нападениями» (Бартольд, 1963, с. 502). Судя по приведенному свидетельству, еще в начале XII в. енисейские кыргызы находились в Монголии, что противоречит известиям времени династии Восточное Ляо.
Следует отметить, что в данном случае речь идет не о собственно кыргызах, а о «живших в этих пределах племенах», что
(100/101)
равным образом можно расценить и как воспоминание о господстве енисейских кыргызов над местным населением, тем более, что, желая отомстить кыргызам, кидани послали против них войско и взяли город Бишбалык в Восточном Туркестане, захваченный кыргызами еще в 841-842 гг., но, как указывает Джувейни, не кыргызский, а уйгурский город (Бартольд, 1963, с. 502-503). В известной степени сложившуюся ситуацию объясняет заключение С.М. Абрамзона о том, что еще недавно имя кыргыз «распространялось на группы племён различного происхождения не только в Минусинской котловине и в пределах Саяно-Алтая, но и значительно южнее и юго-западнее — на территории Джунгарии и частично Восточного Туркестана» (Абрамзон, 1971, с. 21), т. е. именно там, где происходили описываемые Джувейни события.
К несколько более позднему времени относится упоминание о войне енисейских кыргызов и найманов, о которой известно только то, что кыргызы потерпели в ней поражение. Случай, «когда они разбили кыргызов», упоминается в политической истории найманов (Рашид-ад-дин, 1952, с. 135). Упоминаемая Рашид-ад-дином война могла происходить как в Монголии, так и за её пределами: достаточно вспомнить походы древних тюрков и уйгуров за Саяны в VIII-X вв. В самом конце XII в. (1199 г.) Буюрук-хан найманский бежал от войск Темучина (Чингис-хана) в «Кем-Кемджиут, принадлежащую к местностям, входившим в область киргизов». По Рашид-ад-дину, «Киргиз и Кем-Кемджиут — две смежные друг с другом области; обе они составляют одно владение» (Рашид-ад-дин, 1952, с. 150), но имеют разных правителей. Как справедливо полагает Н.А. Сердобов, «скорее всего, объединённое название “Киргиз и Кем-Кемджиут” следует считать отголоском предшествующего господства кыргызов в Туве» (Сердобов, 1971, с. 113). Содержание приведенных сообщений аналогично рассказу Джувейни о набегах киданей на «жившие в этих пределах племена»: в обоих случаях говорится о местном населении, входившем в состав государства енисейских кыргызов в IX-X вв. и сохранившем название «кыргыз» как название последнего наиболее крупного этносоциального объединения на протяжении всего предмонгольского времени.
Сокращение границ государства енисейских кыргызов демонстрируют и археологические материалы. По данным Г.В. Длужневской, «к концу X в. наблюдается резкое уменьшение количества памятников енисейских кыргызов на территории Тувы». Погребения начала II тыс. н.э. (по Л.Р. Кызласову, аскизская культура) «концентрируются у р. Енисей, р. Хемчик (нижнее течение), севернее Уюкского хребта. Такое размещение их и явное уменьшение числа в определенной степени свидетельствуют об отступлении кыргызов, носителей аскизской культуры, к северу, подтверждая частичное возвра-
(101/102)
щение кыргызов за Саяны в течение X в.» (Длужневская, 1979, с. 49; 1982а, с. 129-130).
Для решения вопроса о длительности пребывания енисейских кыргызов в Центральной Азии наряду с письменными и археологическими источниками могут быть привлечены и сведения палеоэтнографического характера. Выше уже говорилось о комплексном направлении хозяйства енисейских кыргызов, в котором значительное, если не ведущее, место принадлежало земледелию. Те же хозяйственные особенности сохранялись у кыргызов и после их выхода на арену Центральной Азии. Сведения о земледельческой культуре кыргызов проникают в арабские и персидские источники. Так, например, ал-Идриси сообщает, что «у киргизов на реке имеются мельницы, на которых они размалывают рис, пшеницу и другие злаки, превращая их в муку, из которой приготовляют хлеб, или же едят их в вареном виде без размола, этим они питаются... Женщины выполняют всякого рода работы, а мужчины должны заниматься только пахотой и жатвой» (Караев, 1973, с. 32-33). И в монгольское время, по данным Юаньши, «обычаи — цзили-цзисы (кыргызов. — Д.С.) отличаются от обычаев всех других владений... Имеют значительные сведения об обработке земли» (Кычанов, 1963, с. 59).
Палеоэтнография енисейских кыргызов, представление о них как о преимущественно земледельческом народе (с учетом данных археологии и письменных источников) хорошо объясняют причины их ухода из Центральной Азии. Будучи в значительной степени земледельцами, хозяйственно-культурный тип которых сложился в Минусинской котловине, — древнем земледельческом центре Сибири, — кыргызы не имели экономической базы в степях и плоскогорьях Центральной Азии. Очевидно, не случайно, не желая отрываться от своих оседлых поселений, полей и пастбищ, они не перевели столицу после победы над уйгурами на Орхон, как это делали все их предшественники и позднее монголы. Уже в начале X в. столица енисейских кыргызов находилась в г. Кемиджкете в Центральной Туве, пожалуй, единственном здесь месте, пригодном для земледелия (Кызласов, 1969, с. 96). Однако пребывание в Центральной Туве было непродолжительным, так как уже в середине X в. их столица была перенесена далеко на север, за Саяны. «От Когмена (Западные Саяны. — Д.С.), — сообщает Гардизи, — до киргизского стана семь дней пути, дорога идет по степи и лугам, мимо приятных источников и сплетённых между собой деревьев. Здесь военный лагерь киргизского хакана и лучшее место в стране» (Бартольд, 1973, с. 47). Упоминаемое Гардизи место находилось, скорее всего, на р. Белый Июс, где и позже стоял «каменный городок» киргизских князей. «Имеются основания, — отмечал Л.П. Потапов, — считать этот городок древним центром владений енисейских кыргызов» (Потапов, 1957, с. 16).
Таким образом, господство енисейских кыргызов в Цент-
(102/103)
ральной Азии (в том числе в Туве) закончилось в X в., и основная их масса, главным образом в силу земледельческой направленности своего хозяйства, вернулась на Средний Енисей. Последовательное перенесение ставки кыргызского кагана можно рассматривать как прямое свидетельство сокращения границ государства енисейских кыргызов. Кыргызский каган не мог из-за Саян, с верховьев Чулыма, управлять народами Центральной Азии: местоположение ставки должно было определять и политический центр самого государства. Возвращение кыргызов на Средний Енисей, скорее всего, носило поэтапный характер. В абсолютных датах его можно синхронизировать с перемещением ставки кыргызского кагана, зафиксированным письменными источниками.
Сокращение границ государства енисейских кыргызов в конце I тыс., переселение их большей части в Минусинскую котловину, где в это время должно было произойти переоформление традиционных наделов полей и пастбищ, не могло не вызвать расселения части енисейских кыргызов в северные пределы их страны. Кыргызские погребения X-XI вв. (возможно, на основе красноярско-канского варианта культуры предшествующего времени) известны на р. Кане и севернее Красноярска (Миндерла). Наибольший интерес из них представляет канское погребение по обряду трупосожжения с характерными кыргызскими вещами (крупные трёхпёрые наконечники с пирамидально оформленной верхней частью и фигурными прорезями в лопастях, бляшка с «пламевидным» орнаментом), найденными вместе с более поздними предметами (стремя с низкой невыделенной пластиной, круглые пряжки с пластинчатой рамкой, кольцо на фигурной пластине). Авторы раскопок датируют данное погребение X-XI вв. и относят к местному северному варианту «древнехакасской» (кыргызской. — Д.С.) культуры (Савельев, Свинин, 1978). Подобные памятники фиксируют продвижение енисейских кыргызов на север в самом начале II тыс. Известно, что уже в монгольское время ещё севернее, в месте слияния Енисея и Ангары, находился город енисейских кыргызов Кикас (Рашид-ад-дин, 1952, с. 102).
Глава IV. Позднетюркское время
2. Кимако-кыпчакское объединение. Сросткинская культура (с. 103-118)
Самым поздним государственным образованием на севере Центральной Азии в древнетюркскую эпоху было объединение кимако-кыпчакских племён (государство кимаков) с центром на Иртыше.
Известно, что оно сложилось в IX в. и в него первоначально входило семь племён: имак (йемек), ими (эймюр), байандур, татар, ланиказ, аджлад и кыпчак (Бартольд, 1973, с. 43). Основным в кимакской федерации было тюркоязычное племя янь-
(103/104)
мо, очевидно, одно из телеских племён, родственное чеби, ранее входившее в состав Западнотюркского каганата (Грумм-Гржимайло, 1926, с. 272). Племя яньмо обычно отождествляется с йемеками (Зуев, 1962, с. 117-122), давшими, по мнению Б.Е. Кумекова, название всему этнополитическому объединению - кимак (Кумеков, 1972, с. 39-41). Тот факт, что основным в кимакской федерации было одно из телеских племен, обитавшее в Прииртышье и родственное алтае-телеским тюркам, во-первых, показывает местную основу культуры кимаков па Иртыше, во-вторых, объясняет отличительную особенность восточно-казахстанских погребений IX- вв. — обычай захоронения с конём, видимо, общий с алтайским. В предшествующее время (VII-VIII вв.) здесь известно несколько погребений с конём — Чиликты, Подстепное (Арсланова, 1968, с. 100; табл., рис. 189-195) и др. с предметами сопроводительного инвентаря катандинского типа. «Сопровождение погребённых конями, устройство деревянных перекрытий над покойником, — отмечает В.А. Могильников, — сближает погребения кимаков с погребениями алтайских тюрок VI-VIII вв.» (Могильников, 1981а, с. 44). Дальнейшее развитие этносоциальной общности кимаков связано с распадением Уйгурского каганата в 840 г.
Уйгуры на Иртыше. Уйгурская государственность в Центральной Азии, имея длительную и сложную предысторию, заканчивает свое существование неожиданно, не исчерпав всех своих политических и социальных возможностей. Она оказывается как бы до конца нереализованной и способствует образованию типологически близких социальных объединений на новых местах проживания уйгуров или входивших в состав Уйгурского каганата племен (Малявкин, 1983).
Пути расселения уйгуров после гибели Уйгурского каганата рассмотрены в специальной работе А. Г. Малявкина, который выделяет пять основных направлений их движения в середине IX в.: 1) северо-восточное — в район Забайкалья к большим шивэй; 2) восточное — в районы, находившиеся под контролем киданей; 3) южное — к северным границам Китая и в районы, расположенные к западу от Ордоса; 4) юго-западное — в Турфанскую котловину и в район Кучи; 5) западное — в Джунгарию и Семиречье (Малявкин, 1972). Из них наибольшее значение в последующем имели южное и юго-западное направления. Миграция уйгуров на юг н юго-запад привела к созданию знаменитого Турфанского и Ганьчжоуского княжеств.
В настоящее время имеются основания предполагать, что какая-то часть уйгуров (или входивших в состав Уйгурского каганата племен) проникает не только на запад, но и на северо-запад (северо-западное направление), в районы верхнего Иртыша. Важные сведения об уйгурах на Иртыше приводит Абуль-Гази, автор XVII в.: «Около 3000 лет жили уйгуры в означенной земле (Монголии. — Д. С.), потом они пришли в упадок, по-
(104/105)
пали в плен и рассеялись. Некоторые из них остались на родине, другие пошли на берега Иртыша и распались там на три колена; одно из них, направившись к Биш-Балыку (столице Турфанского княжества. — Д. С.), засеяло там поля и привело страну в цветущее положение. Другое занялось разведением лошадей и овец и стало кочевать вблизи Биш-Балыка. Третье колено поселилось в лесах на Иртыше, не разводило скот, а занималось рыболовством и охотою па выдр, соболей, куниц и белок, питалось их мясом и одевалось в их шкуры...» (Радлов, 1893, с. 55). Несмотря на поздний характер источника, приведённые в нём факты — изгнание уйгуров из Монголии и освоение ими земледельческих оазисов Восточного Туркестана — полностью соответствуют событиям середины IX в. Описание «третьего колена» уйгуров на Иртыше как охотников и рыболовов подразумевает смену у них хозяйственно-культурного типа, что не должно вызывать удивления, — например, центральноазиатские уйгуры-кочевники в оазисах Восточного Туркестана стали земледельцами.
Как уже говорилось, в генеалогической легенде о сложении кимакского объединения, записанной Гардизи в XI в., но относящейся к более ранному времени, среди предков-эпонимов названы пришедшие на Иртыш после разгрома их основных становищ племена ими (эймюр), байандур и татар (Бартольд, 1973, с. 43). Татары (или, во всяком случае, их часть) и байандуры (байаты или байырку?) выступали как союзники токуз-огузов (уйгуров) в войне против тюрков-тугю и енисейских кыргызов. Ими (эймюров) Б.Е. Кумеков отождествляет с одним из 12 уйгурских племён, ejäbör, название которого известно по сакскому документу VIII в. (Кумеков, 1972, с. 38). Представляется вполне обоснованным его заключение о том, что «после распада в 840 г. Уйгурского каганата часть племён, входивших в него (эймюр, баяндур, татар), присоединилась к ядру кимакского объединения. Именно в это время происходит сложение кимакской федерации в том составе, который приводит Гардизи» (Кумеков, 1972, с. 114).
Вхождение каких-то телеских групп (например, паегу, ср. байандур) в состав кимакского объединения, совпадает со временем упадка Уйгурского каганата, отмечает и Ю.И. Трифонов (Трифонов, 1982, с. 152). У ал-Масуди (автора второй половины X в.) упоминается сложный этноним кимак-югур, в котором, вероятнее всего, следует видеть собирательное название группы населения уйгурского происхождения, входившей в состав государства кимаков (Кумеков, 1972, с. 38-39). На каком-то этапе в состав государства кимаков были включены кыпчаки, о которых известно только то, что они «более дикие, чем кимаки. Их царь назначается кимаками» (Минорский, 1937, с. 21).
Таким образом, в середине IX в. часть уйгуров (или входив-
(105/106)
ших прежде в Уйгурский каганат племён) продвинулась па территорию Восточного Казахстана, где приняла участие в сложении кимако-кыпчакского этносоциального объединения. Не исключено, что именно уйгурам, как н в других местах их расселения, принадлежала в этом процессе организующая роль.
Страна кимаков. Территория расселения кимако-кыпчакских племён, по данным письменных источников, определяется Б.Е. Кумековым следующим образом: «Приблизительно от юго-восточной части Южного Урала до Приаральских степей на западе, с земель Центрального Казахстана до северного Прибалхашья, включая часть территории Северо-Восточного Семиречья на юге, от Западного Алтая до Кулундинской степи на востоке и до лесостепной полосы на севере» (Кумеков, 1972, с. 58). Центр государства кимаков находился на Иртыше, куда из Средней Азии вели караванные пути, описанные в сочинениях Ибн Бахра, ал-Идриси и Гардизи (Ахинжанов, 1968; Кумеков, 1972, с. 48-53). Для этнокультурной истории народов Южной Сибири важное значение имеет вопрос о восточных границах расселения кимако-кыпчакских племён. По сообщению Гардизи, караваны после длительного пути из Янгикента «приходят к реке Иртыш, где начинается страна кимаков... Переправившись через реку Иртыш, приходят к шатрам кимаков... В этой стране выпадает много снега; бывает, что толщина снежного покрова в степи достигает высоты копья. Зимой они уводят лошадей в отдалённую страну, в место Öк-Таг (очевидно, Монгольский Алтай. — Д. С.)» (Бартольд, 1973, с. 45). По описанию Гардизи, можно предполагать, что владения кимаков располагались не только западнее, но и восточнее бассейна Иртыша. Показательно, что в письменных источниках кимаки часто упоминаются вместе с кыргызами, причем не только как западные, но и как северные соседи кыргызов (Кумеков, 1972, с. 55-56; Караев, 1968, с. 30-60). Очевидно, что в данном случае имеются в виду не тянь-шаньские кыргызы, существование которых как самостоятельного народа в конце I тыс. н.э. вообще сомнительно, а енисейские кыргызы, включившие в IX в. в состав своего государства Горный Алтай и ставшие непосредственными соседями кимаков на Иртыше. Наиболее вероятным местом, где кимаки могли оказаться севернее кыргызов, был степной Алтай, входивший в состав кимако-кыпчакского объединения. Таким образом, представляется возможным уточнить восточные и северо-восточные границы страны кимаков: по западным и северным склонам Горного Алтая до Кузнецкого Алатау, служившего, очевидно, этническим барьером между енисейскими кыргызами и кимаками.
Обширная территория расселения кимако-кыпчакских племён, охватывающая северные и западные предгорья Алтайской горной системы с выходом в казахстанские степи и Семиречье, включала различные физико-географические районы — степные,
(106/107)
лесостепные, опустыненные, горно-таёжные. Естественно, в этих условиях культура местного населения не могла быть монолитной, что нашло отражение и в письменных источниках. По Гардизи, «никаких строений у них нет; все живут в лесах, ущельях и степях; все владеют стадами коров и баранов; верблюдов у них нет… Летом они питаются кобыльим молоком, которое называется у них кумысом; на зиму заготавливают сушёное мясо, баранье, лошадиное или коровье… В этой стране много снега; бывает, что толщина снежного покрова в степи достигает высоты копья. . . Предметы охоты кимаков — соболи и горностан» (Бартольд, 1973, с. 45). Аналогичные сведения сообщает анонимный автор «Худуд ал-Алам»: «И эта область такова, что в ней только один город и всё. В ней множество племён, и жители её селятся в шатрах и кочуют в поисках сухой травы, воды и зелёных лугов, летом и зимой. Статьей их дохода являются соболь и овцы, а пища их летом — молоко, а зимой — высушенное мясо» (Материалы по истории киргизов и Киргизии, 1973, с. 44). В других источниках указывается, что «их жилища — среди зарослей и густых лесов», «они питаются рисом, мясом, и рыбой», говорится также о земледелии у кимаков и т. д. (Кумеков, 1972, с. 92-94). Нет никаких сомнений в том, что приводимые в письменных источниках сведения по этнографии кимаков характеризуют культурные особенности не одного парода (кимаков-йемеков), а свидетельствуют о широком расселении кимако-кыпчакских племен, о наличии разных хозяйственно-культурных типов в пределах их страны, северные границы которой доходили до «окружающего моря» или «необитаемых стран севера», как называли арабо-персидские авторы таёжные пространства Северной Азии.
Археологические памятники кимаков (йемеков) на Иртыше. Погребения кимаков, в узком, этническом значении термина йемеков, лучше всего изучены в Восточном Казахстане, на Иртыше. Первые материалы конца I тыс. были получены из этого района еще в конце XIX в. в результате раскопок В. Радлова, Г. Васильева, В. Каменского и др. Впоследствии наиболее крупные исследования на Иртыше были проведены С.С. Черниковым, материалы раскопок которого опубликованы в общих обзорах (Археологическая карта Казахстана, 1960, табл. IX; Агапов, Кадырбаев, 1979, с. 123) и в отдельных статьях (Плотников, 1981, 1981а). Позже погребения кимаков исследовали Е.И. Агеева и А.Г. Максимова (Агеева, Максимова, 1950) и особенно Ф.X. Арсланова (Арсланова, 1963, 1968, 1969; Арсланова, Кляшторный, 1973). По материалам этих раскопок можно составить достаточно чёткое представление об особенностях погребального обряда и комплексе предметов сопроводительного инвентаря восточноказахстанских кимаков.
Характерные черты погребального обряда, по данным наиболее крупных восточноказахстанских могильников, следую-
(107/108)
щие: Славянка — захоронения одиночные, с конём, шкурой коня или предметами конской упряжи, имеется один кенотаф; Юпитер — захоронения в деревянных гробах, в подбоях с конём или предметами конской упряжи: Кызыл-Ту — захоронения одиночные, с конём или шкурой коня выше уровня погребённого; Бобровский могильник — захоронения одиночные, трупосожжения в сочетании с сопроводительными захоронениями коней, отдельные подбои, использование берёсты в погребениях; Орловский могильник — захоронения одиночные и парные в сопровождении коней и в некоторых случаях собак; Зевакинский могильник — захоронения одиночные н с конём на приступке, реже с собакой, иногда под одной курганной насыпью располагается несколько могил. Для всех прииртышских погребений характерна преимущественно восточная ориентировка погребенных. В целом погребальный обряд восточноказахстанских кимаков отличается значительным разнообразием и носит явно композитный характер, что соответствует сложному процессу образования кимако-кыпчакского объединения. В качестве отдельных его компонентов могут быть выделены: телеский (погребения с конём), кыпчакский (погребения со шкурой коня и предметами конской упряжи), уйгурский (погребения в катакомбах), возможно кыргызский (трупосожжения).
Независимо от особенностей погребального обряда в кимакских захоронениях Восточного Казахстана найден взаимосвязанный комплекс предметов сопроводительного инвентаря: палаши с прямым перекрестием; удила с «8»-образным окончанием звеньев (табл. VII, 14) и с большими внешними кольцами; эсовидные псалии — железные и костяные с окончанием в виде «рыбьего хвоста» (табл. VII, 8); наконечники стрел — трёхлопастные, плоские и ланцетовидные; срединные накладки луков и костяные обкладки колчанов с циркульным орнаментом; стремена петельчатые и с невысокой невыделенной пластиной (табл. VII, 27); бронзовые и костяные пряжки с острым носиком; многочисленные детали поясных и уздечных наборов — «Т»-видные тройники, длинные наконечники ремней (табл. VII, 10), бляшки с петлей, перехватом, сердцевидные, розетки и т. д.; наконечники в виде рыб (табл. VII, 15); серьги с круглой подвеской-шариком (табл. VII, 12); украшения, выполненные в ажурном стиле (табл. VII, 2) и др. Многие детали поясных и уздечных наборов позолочены, украшены богатым растительным и иногда геометрическим орнаментом. В отличие от позднекочевнических погребений Тувы и Горного Алтая в восточноказахстанских могилах встречается керамика (Арсланова, 1980).
По поводу датировки кимакских погребений у исследователей нет особых расхождений — большинство памятников они относят к концу I тыс. н. э. Более подробная периодизация разработана Ф.X. Арслановой, Е.И. Агеевой и А.Г. Макси-
(108/109)
мовой на материалах Павлодарского Прииртышья. Е.И. Агеева и А.Г. Максимова выделяют два хронологических этапа в культуре восточноказахстанских кимаков — VI-VIII и IX-XI вв. (Агеева, Максимова, 1959). Ф.X. Арсланова разделяет памятники Павлодарского Прииртышья на три этапа — VII- VIII, IX, X-XII вв. (Арсланова, 1968). Другие погребения Восточного Казахстана, например, кург. 146 Зевакинского могильника, датируются IX-X вв. (Арсланова, Кляшторный, 1973, с. 311). Последняя дата представляется наиболее обоснованной: кимако-кыпчакское объединение сложилось после гибели Уйгурского каганата, т.е. в середине IX в. и просуществовало до конца X в. Это не исключает возможности отнесения отдельных восточноказахстанских погребений к VII-VIII вв. (Чиликты, Подстепное н др.), однако их немного н сами процессы формирования культуры кимаков на Иртыше остаются во многом неясными.
Отдельные близкие находки и погребения встречаются в Семиречье, что соответствует сведениям письменных источников о продвижении сюда кимаков во второй половине VIII — начале IX в., (Кумеков, 1972, с. 113-114). Так, захоронения с конём и близкими формами предметов сопроводительного инвентаря раскопаны на могильниках Кызыл-Кайнар и Айпа-Булак (Максимова, 1960, 1968). В тех же хронологических рамках на Верхнем Иртыше (Чариков, 1976, 1979; Арсланова, Чариков, 1974) и в Семиречье (Шер, 1966) распространены своеобразные каменные изваяния в виде антропоморфных стел с сосудом в двух руках или вообще без реалий, считающиеся кимакскими (Федоров-Давыдов, 1966, с. 188-189, Плетнёва, 1974, рис. 33; Могильников, 1981а, с. 44-45). Типологически они могут быть связаны с изваяниями поздней «уйгурской» группы в Центральной Азии.
Сросткинская культура. Начиная с IX в. на территории Северного Алтая н южных районов Западной Сибири складывается сросткинская культура, названная по известному Сросткинскому могильнику в с. Сростки у г. Бийска. Честь открытия, определения хронологии и культурной принадлежности памятников сросткинской культуры принадлежит М.П. Грязнову. В 1930 г., собрав все известные к тому времени материалы типа Сросткинского могильника, М.П. Грязнов писал, что в данном случае «мы имеем дело с культурой кочевников, очень сходной с культурой предшествующей эпохи». В сводной таблице вещи из Сросткинского могильника составили «3-ю стадию железной культуры на Алтае» (Грязнов, 1930, с. 18-26). В работе 1950 г. те же материалы фигурируют под названием «памятников сросткинского типа» (Грязнов, 1950а, с. 15), а в работе 1956 г. — сросткинской культуры IX-X вв. (Грязнов. 1956, с. 150-151). Позднее А.А. Гаврилова объединила памятники сросткинской культуры в группу «могил сросткинского
(109/110)
типа» VIII-X вв., распространённых, по её мнению, от Забайкалья на востоке до Барабинской степи на Западе и от Новосибирского Приобья на севере до Тувы и Горного Алтая на юге. «Расположенные на весьма широкой территории, — отмечает А.А. Гаврилова, — вещи сросткинских типов говорят о распространении этой культуры у различных племён с разным обрядом погребения» (Гаврилова, 1965, с. 66-72).
В 1960 г. по материалам всех исследованных памятников М.П. Грязнов предварительно выделил четыре локальных варианта сросткинской культуры: бийский, барнаульско-каменский, новосибирский и кемеровский. Эти районы, по его мнению, «соответствовали четырём племенным объединениям» населения сросткинской культуры (Грязнов, 1960. с. 24). Однако фактически такое деление обосновано не было, и вопрос об особенностях локальных вариантов сросткинской культуры по сути дела до сих пор остается открытым. В 1981 г. В.А. Могильников отмечал, что «определение специфики локальных вариантов сросткинской культуры ещё требует дальнейшей разработки» (Могильников, 1981б, с. 46). В настоящее время, суммируя все известные материалы (не считая отдельных памятников), можно выделить североалтайский, западноалтайский, новосибирский и кемеровский локальные варианты сросткинской культуры. История изучения двух первых вариантов изложена в специальной работе С.В. Неверова (Неверов, 1980).
Североалтайский вариант. Погребения сросткинской культуры на Северном Алтае представлены в первую очередь материалами самого Сросткинского могильника, исследованного в различные годы М.Д. Копытовым (1925), М.Н. Комаровой (1925 г.) и С.М. Сергеевым (1930 г.). Материалы из раскопок М.Д. Копытова опубликованы А. Захаровым и В. Арендтом (Захаров, Арендт, 1935, табл. VIII), М.П. Грязновым (Грязнов, 1930, с. 9-10), С.В. Киселёвым (Киселёв, 1951, табл. VIII, 5). Результаты работ М.Н. Комаровой практически не опубликованы. Из раскопок С. М. Сергеева опубликован только кург. 2 (Гаврилова, 1965, с. 69, рис. 11). На Северном Алтае можно отметить также серию погребений, исследованных М.П. Грязновым на Большой Речке (Грязнов, 1965, с. 145-152). несколько курганов, раскопанных А.П. Уманским — у совхоза «Поспелихинский», д. Нечунаево, Мало-Панюшево (Уманский, Неверов, 1982), курганы у д. Грязново (Могильников, Неверов, Уманский, Шемякина, 1980) и часть погребений Змеевского могильника (Неверов, 1082).
По этим памятникам можно представить особенности погребального обряда североалтайских племен в IX--X вв. Сросткинский могильник: грунтовые захоронения, сочетание трупоположения н трупосожжения, северо-восточная ориентировка, использование дерева и берёсты при оформлении могильных ям. Большая Речка: несколько могил (до 5) под одной кур-
(110/111)
ганной насыпью, отдельные парные захоронения и кенотаф; другие особенности близки собственно сросткинским — намогильные деревянные сооружения и перекрытия могил, трупоположение на спине преимущественно с северо-восточной ориентировкой, берёста в виде подстилок н «саванов» для погребённых. Нечунаево и Мало-Панюшево: одиночные захоронения и трупоположения с конём с широтной ориентировкой. Грязново: несколько могильных ям под одной насыпью, деревянные перекрытия, трупоположение на спине с северо-восточной ориентировкой, отдельные парные и кенотафные захоронения; отличительные особенности — сопроводительные захоронения собак, череп лошади на перекрытии могильной ямы. Змеевский могильник: трупоположение без коня в грунтовых ямах на спине, ориентировка на восток и северо-восток; встречены подстилка из жердей и захоронение в колоде.
Западноалтайский вариант. На Западном Алтае погребения конца I тыс. открыты на р. Алей (Гилёво I, II, III, XI, XII, XIII). Несмотря на то, что о раскопках Алейской экспедиции в печати появились только предварительные сообщения (Могильников, 1972, 1972а), уже сейчас можно составить общее представление об особенностях погребального обряда западно-алтайских курганов. Это одиночные (редко — захоронения 2 или 3 человек) трупоположения с восточной ориентировкой, иногда с сопроводительным захоронением коня или его шкуры в сочетании с трупосожжениями, расположенными в насыпи, на уровне древней поверхности или в неглубоких ямках.
Кемеровский вариант. На территории Кемеровской области (в прошлом Кузнецкий округ) погребения сросткинской культуры были открыты А. Кузнецовой в 1927 г. на р. Ине — Новокамышенка и Камысла (Кузнецова, 1930). Позднее М.Г. Елькин исследовал замечательный могильник Ур-Бедари около г. Гурьевска, содержащий десятки курганов и сотни могил, из которых, к сожалению, полностью опубликованы материалы только одного кургана — № 30 (Елькин, 1970). Рядом с могильником открыло поселение позднего железного века, принадлежавшее, по-видимому, той же группе населения (Елькин, 1974). Еще один могильник сросткинской культуры раскопан Ю.М. Бородкиным около с. Тарасово (Бородкин, 1977).
Погребальный обряд, представляющий этот вариант сросткинской культуры, обладает наибольшей сложностью. Новокамышенка: одиночные трупоположения с северо-восточной ориентировкой в грунтовых ямах, перекрытых деревянным настилом, в некоторых случаях сопровождающиеся захоронением коня. Ур-Бедари: сочетание трупоположения и трупосожжения в различных вариантах, погребения в срубах, в бересте, на деревянном настиле и в гробах, наличие нескольких могильных ям под одной курганной насыпью; в кург. 30 — девять могильных ям, в которых находились одиночные трупоположения с во-
(111/112)
сточной ориентировкой, трупоположения с конём или со шкурой коня, остатки трупосожжений. Тарасово: одиночные подкурганные захоронения, погребения с конём (или предметами конской упряжи), в одном случае под курганной насыпью находилось две могильных ямы; кроме того, отмечены остатки деревянных перекрытий, на которых находились кости лошади и берестяные орнаментированные покрышки.
Новосибирский вариант. Памятники сросткинской культуры известны и в Новосибирской области — Усть-Тартас (Чугунов, 1897), Ордынское и Старый Шарап (Грязнов, 1960), Чулым II (Сидоров, Соболев, 1977), но отсутствие достаточных сведений не позволяет судить об особенностях погребального обряда этого варианта сросткинской культуры. При раскопках могильника Чулым II зафиксированы одиночные подкурганные погребения, западная ориентировка погребённых, следы тризн и сопроводительное захоронение шкуры коня.
Комплекс предметов сопроводительного инвентаря из памятников сросткинской культуры (независимо от особенностей обряда погребения) включает в себя определенный набор вещей, в который входят: палаши типа знаменитого «сросткинского меча» (табл. VII, 31), луки со срединной фронтальной накладкой-вкладышем, наконечники стрел на длинном веретенообразном стержне, костяные изогнутые псалии с «сапожком», удила с «8»-образными кольцами, расположенными в одной плоскости, стремена с невыделенной пластиной, костяные и бронзовые пряжки с острым носиком (табл. VII, 26), подвески в виде птиц, копоушки, длинные ременные наконечники (табл. VII, 9), сердцевидные бляхи-решмы с личиной-колокольчиком (табл. VII, 22), «Т»-видные тройники (табл. VII, 24), «у»-образные уздечные бляшки, прямоугольные бляшки с петлёй (табл. VII, 3, 4), двухсоставные застёжки, различного рода украшения с мотивами растительного орнамента, изображения противостоящих птиц и т. д. Особенно характерны для сросткинской культуры украшения, выполненные в так называемом «ажурном стиле», (табл. VII, 5, 6), представленные главным образом в северных районах её распространения. Эти вещи редко встречаются в погребениях в полном наборе, однако присутствие даже некоторых из них свидетельствует о принадлежности данного памятника к сросткинской культуре или её окружению.
Происхождение сросткинской культуры окончательно не выяснено, ясно только, что она развивается на основе местных памятников катандинского типа VII-VIII вв., испытавших сильное влияние культуры восточноказахстанских племён. К местному компоненту сросткинской культуры могут быть отнесены такие детали захоронений, как деревянные намогильные сооружения, срубы, использование берёсты в виде подстилок и «саванов» для погребенных. О местном характере фор-
(112/113)
мироваиия погребального обряда североалтайского и кемеровского вариантов сросткинской культуры свидетельствуют также конструктивные особенности курганов VIII-IX вв. (деревянные перекрытия с костями животных, берестяные покрышки и сопроводительные захоронения коней), исследованных А.П. Уманским па р. Ине (Уманский, 1970). Внешнее влияние проявилось более всего в комплексе предметов сопроводительного инвентаря, особенно в его декоративном оформлении, имеющем ближайшие аналогии в археологических материалах кимаков (йемеков) Восточного Казахстана.
Вопрос об этнической принадлежности сросткинской культуры. Этническая принадлежность сросткинской культуры определяется в литературе по-разному. Первый исследователь данной культуры М.П. Грязнов писал, что «сросткинская культура на Алтае представляет собой продукт местного развития и что примерно в VIII в. население с этой культурой распространилось на север по лесостепным районам Оби» (Грязнов, 1956, с. 151). А.А. Гаврилова, напротив, считала, что сросткинская культура сложилась вне Алтая. Её распространение она связывала с политическими переменами — «господством в степи, в том числе и на Алтае, уйгурских племён, нанёсших поражение восточным тюркам в 745 г., а затем кыргызских, разгромивших уйгуров в 840 г.» (Гаврилова; 1965, с. 72). Подобное отнесение одной культуры к двум разным народам с самого начала казалось маловероятным. Позднее А.А. Гаврилова определённо высказалась за уйгурскую принадлежность сросткинских памятников на Северном Алтае (Гаврилова, 1974). В других работах, посвящённых конкретным археологическим памятникам, подчеркивается древнетюркская основа этой культуры. Так, М.Г. Елькин относит могильник Ур-Бедари к тюркам Кузбасса, «которые находились под значительным воздействием енисейских кыргызов» (Елькин, 1970, с. 92).
Другие авторы отмечали сходство материалов из погребений сросткинской культуры Северного Алтая н одновременных памятников Восточного Казахстана, принадлежащих кимакам. Публикуя материалы Бобровского могильника, Ф.X. Арсланова первая отметила, что «единство форм и основных элементов орнамента на бобровских подвесках и сросткинских бляхах, а также близость к орнаменту на предметах енисейских кыргызов позволяют говорить о происшедшем, по-видимому, взаимовлиянии этих племён» (Арсланова, 1963, с. 80). В работах В.А. Могильникова неоднократно подчёркивалась близость западноалтайских и восточноказахстанских погребений. По его мнению, на территории Западного Алтая проживала «одна из групп тюркских племен, а культурно-этническом отношении близкая, хотя н не тождественная полностью восточноказахстанским племенам кимаков» (Могильников, 1972, с. 42). Население сросткинской культуры В. А. Могильников не счн-
(113/114)
тает кимакским — «ареал расселения кимаков на северо-востоке занимал степи Верхнего, отчасти Среднего Прииртышья, включая Алейскую степь на востоке, вероятно, до Оби. Прилежащие к этой территории лесостепные и лесные районы были заняты тюркизируемым населением сросткинской культуры с угро-самодийским субстратом» (Могильников, 1979, с. 61). Данный вывод послужил основанием для помещения им в сводной работе «Степи Евразии в эпоху средневековья» статей «Кимаки» и «Сросткинская культура» в виде самостоятельных разделов («Степи Евразии в эпоху средневековья», 1981, с. 43-46). Точку зрения В.А. Могильникова разделяет С.В. Неверов, который отмечает, что «если для Восточного Казахстана понятие „кимакская принадлежность памятников сросткинской культуры” верно в этническом смысле, то для памятников верхнего Приобья и предгорий это будет, видимо, верно только в политическом отношении, т.е. в смысле некоторой зависимости племён Алтая от государства кимаков» (Неверов, 1980, с. 101).
В 1973 г. нами было предложено включить в зону распространения сросткинской культуры восточноказахстанский ареал и рассматривать её по всей территории распространения как кимакскую (точнее — кимако-кыпчакскую) в широком, этнокультурном значении термина (Савинов, 1973). Это мнение было поддержано другими исследователями (Арсланова, 1979, с. 82; Худяков, 1981, с. 115-116). Так, Ф.Х. Арсланова считает, что «сопоставление археологического материала с письменными данными убедительно свидетельствует о том, что районы Южного Урала, Приобья и Северного Алтая входили в область расселения кимаков в IX-X вв.» (Арсланова, 1980, с. 101). Памятники Восточного Казахстана и Прииртышья, рассмотренные выше как погребения кимаков (йемеков), в свою очередь представляют ряд локальных вариантов (предположительно верхнеиртышский, павлодарский и омский) той же культуры, выделение которых требует дополнительного обоснования.
Кимаки и сросткинская культура. Центр расселения кимаков (в узком, этническом значении термина — йемеков) находился на Иртыше. Их культура представлена погребениями Восточного Казахстана. Территория расселения племён, входивших в государственное объединение кимаков (в широком, этнокультурном значении термина), как уже говорилось, охватывала также области Западного и Северного Алтая и прилегающие районы юга Западной Сибири в пределах распространения сросткинской культуры.
В.А. Могильников провёл сравнение погребального обряда восточноказахстанских и североалтайских памятников с целью выявления отличительных особенностей между ними (Могильников, 1979). Естественно, по всей этой обширной терри-
(114/115)
тории трудно ожидать единства погребального обряда. Однако, несмотря на локальные различия (на Северном Алтае и в Кемеровской области — преобладание одиночных захоронений, сочетание трупоположения и трупосожжения, наличие нескольких могильных ям под одной курганной насыпью, использование дерева н берёсты при сооружении могил; в Восточном Казахстане — преобладание захоронений с конём, шкурой коня или предметами конской упряжи, подбои, отгороженные каменными плитами и т. д.), памятники сросткинской культуры обладают рядом общих черт погребальной обрядности, в той или иной пропорции представленных по всей территории её распространения. Это — преимущественно северо-восточная ориентировка погребённых, трупосожжения (на Северном Алтае чаще, в Восточном Казахстане реже); погребения с конём или со шкурой коня (на Северном Алтае реже, в Восточном Казахстане чаще); сооружение нескольких могил под одной курганной насыпью (на Северном Алтае и в Кемеровской области чаще, в Восточном Казахстане реже) и т.д. К этому следует добавить такие детали, как парные погребения, кенотафы, сопроводительные захоронения собак, обычай класть череп лошади на перекрытие могильной ямы и некоторые другие. Если при этом учесть, что исследована очень незначительная часть территориально разобщённых памятников, то сходство будет достаточно полным.
С ещё большим основанием об этом можно сказать относительно предметов сопроводительного инвентаря. Наряду с общераспространенными типами вещей (срединные накладки лука (табл. VII, 19), палаши с напускным перекрестием (табл. VII, 31), удила с «8»-образным окончанием звеньев и дополнительными кольцами без псалий (табл. VII, 14) и др., в сросткинских погребениях Восточного Казахстана и Северного Алтая встречается целый ряд предметов специфических форм. Это костяные изогнутые псалии с окончанием в виде «рыбьего хвоста» (табл. VII, 7, 8), кольца «8»-образных удил, расположенные в одной плоскости, стремена с невыделенной невысокой пластиной, костяные и бронзовые пряжки с острым носиком (табл. VII, 26), фигурные изображения всадников «с нимбом», антропоморфные подвески, длинные ременные наконечники (табл. VII, 9, 10), «Т»-видные плоские тройники (табл. VII, 24), сердцевидные бляхи-решмы с личиной-колокольчиком (табл. VII, 22), наконечники в виде рыб (табл. VII, 15), серьги с подвеской-шариком (табл. VII, 12), бляшки с петлёй (табл. VII, 3, 4) и острым выступом, различного рода украшения, выполненные в ажурном стиле (табл. VII, 2, 5, 6), и т.д. Такое сходство предметов сопроводительного инвентаря может рассматриваться только как свидетельство принадлежности погребений, в которых они были найдены, одной археологической культуре. Восточноказахстанские памятники отли-
(115/116)
чаются от североалтайских большим количеством украшении, более развитой системой растительной орнаментации, находками отдельных изображений (львов, всадников, мифических персонажей), связанных с искусством Средней Азии, что объясняется, скорее всего, социально-привилегированным положением кимаков (йемеков) по отношению к племенам Северного Алтая.
В материалах сросткинской культуры в целом отчётливо проявляется уйгурский компонент, соответствующий рассмотренным выше сведениям письменных источников о северо-западном направлении расселения уйгуров в середине IX в. А.А. Гаврилова первая отметила, что «особенности сросткинского пояса указывают на уйгурское влияние: пояса с украшенными подвесными ремешками с наконечниками изображены на росписях из Турфана, на уйгурах, обосновавшихся там в VIII-IX вв.» (Гаврилова, 1965, с. 72). Однако этим сходство между уйгурскими и сросткинскими материалами не ограничивается. В памятниках IX-X вв. Восточного Казахстана может быть выделен ряд элементов, сопоставимых с тувинскимн материалами предшествующего времени. К ним можно отнести катакомбную форму погребений, ланцетовидные наконечники стрел, фронтальные пластины-вкладыши лука «уйгурского» типа, находки «уйгурских» ваз на Иртыше (Кызласов, 1969, с. 74-76), иконографию каменных изваяний с сосудом в двух руках, продолжающих традицию изваяний «уйгурской» группы в Туве. Очевидно, носителями целого ряда специфических элементов сросткинского культурного комплекса, отличающих его от памятников катандинского типа, были уйгуры. В таком случае сросткинская культура первоначально могла сложиться на территории Восточного Казахстана и уже отсюда после расширения кимакских владений распространилась среди других племён, входивших в это государственное объединение.
Не противоречит объединению памятников сросткинской культуры с погребениями восточноказахстанских кимаков и этнографический облик населения сросткинской культуры, реконструируемый по материалам археологических раскопок на Северном Алтае и в Кемеровской области. Чаще всего в погребениях находятся скелеты лошадей — целиком или только череп и кости конечностей, а также позвонки и крестцы баранов, коров. Такой состав стада свидетельствует о полуосёдлом характере скотоводства у сросткинцев. В большинстве погребений в северных районах распространения сросткинской культуры встречается берёста — в неё заворачивали покойников, ею выстлано дно могильной ямы. Скорее всего, она служила покрытием каркасных сооружений типа чумов или урасы, а затем использовалась при захоронении. Найдены также предметы берестяной утвари. Охотничий, промысловый компонент
(116/117)
сросткинской культуры подтверждается и отдельными находками костяных наконечников стрел. Намогильные сооружения в виде деревянных срубов, перекрытых сверху дёрном или берёстой в алтайских памятниках, явно имитируют формы наземных стационарных сооружений. М.П. Грязнов, считающий сросткинскую культуру на Северном Алтае пришлой, писал, что «сросткинские племена, придя в лесные районы Оби, утратили свой скотоводческий уклад хозяйственной жизни, полностью или частично, н стали лесными жителями со скотоводческо-охотничьим полуосёдлым хозяйством» (Грязнов, 1965, с. 152).
Осёдлый характер части населения сросткинской культуры подтверждается материалами раскопок упоминавшегося выше поселения около г. Гурьевска, где найдена значительная серия керамики, земледельческие орудия и т.д. (Елькин, 1974). Хозяйственно-культурный тип сросткинцев (сочетание полуосёдлого скотоводства и охотничьего промысла, вероятно, с подсобными занятиями рыболовством н ручным земледелием) напоминает описание этнографических особенностей кимаков в письменных источниках. Естественно, в разных районах распространения памятников сросткинской культуры превалировала роль того или иного компонента. В Восточном Казахстане главную роль играло скотоводческое направление, причем ближе к центральным районам Казахстана оно должно было приобретать черты полукочевого скотоводства. По мере удаления к северу усиливался охотничье-рыболоведческий комплекс. На Северном Алтае, очевидно, определённую роль играло земледелие и т.д.
Рассмотренные выше материалы позволяют широко очертить область распространения сросткинской культуры — западные и северные предгорья Алтайской горной системы с прилегающими лесостепными районами юга Западной Сибири. Крайним восточным памятником сросткинской культуры является могильник Ур-Бедари в западных отрогах Кузнецкого Алатау, служившего, очевидно, естественной границей между сросткинской культурой и культурой енисейских кыргызов. На юго-западе и на юге племена сросткинской культуры граничили с алтае-телескими тюрками, занимавшими внутренние и южные районы Горного Алтая. Северная граница, вероятно, проходила по подтаёжной полосе, где соседями сросткинцев могли быть местные угро-самодийские племена. Собственно кимаки (йемеки) жили на Иртыше, возможно, вплоть до предгорий Западного Алтая. Степные районы Северного Алтая, скорее всего, были заняты кыпчаками, потомками древних цюйше, ассимилировавшими местное население.
Возможность проживания кимако-кыпчакских племен на Алтае уже допускалась исследователями. Так, В.В. Радлов писал о том, что «северную часть киргизской степи и самый Алтай занимали, вероятно, кеймеки» (Радлов, 1893, с. 119).
(117/118)
«B сочинениях восточных авторов, — отмечал Л.П. Потапов,- кимако-кыпчакские племена выступают как жители долины Иртыша и западносибирских степей. Они, конечно, обитали в горах Алтая, особенно Западного» (Потапов, 1952, с. 32). Распространение памятников сросткинской культуры на территории Северного Алтая и прилегающих районов юга Западной Сибири, скорее всего, было связано с подчинением кыпчаков кимаками, т.е. с завершающим этапом сложения кимако-кыпчакского государственного объединения.
Таким образом, имеются все основания говорить о кимакской принадлежности сросткинской культуры и о Сростках как археологической культуре кимаков. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что все этнические определения средневековых археологических культур на территории Центральной Азии и Южной Сибири — древнетюркской, уйгурской, кыргызской — подразумевают стоящие за ними сложные полиэтнические образования, названные по имени ведущего этноса. Этническое определение сросткинской культуры как кимакской (точнее кимако-кыпчакской) в этом отношении не представляет исключения. Это была «государственная культура», получившая наибольшее распространение в границах созданного кимаками этносоциального объединения.
В конце X в. сросткинская культура заканчивает своё существование. Одновременно распадается и государство кимаков, на месте которого складывается новая этносоциальная общность кыпчакских племен. Конкретные причины этих событий нам неизвестны. Можно предполагать, что смена политической гегемонии в кимако-кыпчакской федерации была вызвана как внешними событиями (возможно, движение найманов, занявших верховья Иртыша), так и внутренними — в первую очередь социально-экономическим усилением кыпчаков, что явилось отражением общих для всех раннеклассовых объединений Центральной Азии и Южной Сибири центробежных тенденций развития элитарных групп населения периферийных районов, стремившихся к самоопределению и созданию собственной государственности. Выдающаяся роль кыпчаков в истории народов Евразии в какой-то степени заслонила значение государства кимаков. В связи с этим уместно привести слова В.В. Бартольда, который писал, что «историческое значение кимаков состоит в том, что из их среды вышел многочисленный впоследствии народ кыпчаков (называемых в Европе команами, а у русских половцами), который первоначально был лишь одним из племен кимаков» (Бартольд, 1968а, с. 549). После распадения государства кимаков, по сведениям Махмуда Кашгарского, племя имак (кимек) некоторое время продолжало жить на левобережье Иртыша (Кумеков, 1972, с. 86-87). В дальнейшем оно исчезает со страниц истории.
Глава IV. Позднетюркское время 3. Алтае-телеские тюрки в IX-X вв. (с. 119-123)
В период широкого расселения енисейских кыргызов и создания кимако-кыпчакского объединения с центром на Иртыше древняя культура алтае-телеских тюрков, территория проживания которых оказалась в сфере влияния государственных образований енисейских кыргызов и кимаков, видимо, теряет своё значение.
Памятников IX-X вв., принадлежащих алтае-телеским тюркам, известно не много. В Центральной и Северной Туве к ним могут быть отнесены погребения с конём Кара-Чога, кург. 4 (Вайнштейн, 1954, с. 148-154, табл. VII-VIII) и впускное погребение в курган Аржан (Комарова, 1973) (оба с северной ориентировкой). В то же время здесь получают распространение одиночные погребения с северной ориентировкой и близкими формами предметов сопроводительного инвентаря — Успенское, кург. 24 (Кызласов, 1979, с. 191-192, рис. 150) и др. Известно захоронение с бараном и юго-западной ориентировкой — Аргалыкты I, кург. 11 (Трифонов, 1966, с. 25). В юго-западной Туве IX-X вв. датируются погребения на могильнике Саглы-Бажи — кург. 22 (с северной ориентировкой и шкурой коня) и кург. 27 (одиночное погребение с отдельными костями лошади и ориентировкой на северо-восток-восток) (Грач, 1968а). По поводу обряда саглынских курганов А.Д. Грач отмечал, что «в Туве, Монголии и Горном Алтае для древнетюркского времени до сих пор не было зафиксировано факта “замены” цельной туши коня шкурой; погребение на Саглы-Бажи III отличается этой деталью погребального ритуала» (Грач, 1968, с. 109-110).
На территории Горного Алтая погребения с конём IX-X вв. выделяются в составе Курайского могильника. К ним могут быть отнесены Курай III, кург. 1 с северо-восточной ориентировкой, в котором найдены плоские наконечники стрел и железные сердцевидные бляшки; Курай III, кург. 2, откуда происходит стремя с прорезной подножкой кыргызского облика; Курай VI, кург. 1, где были обнаружены серьга с подвеской-шариком сросткинского типа и стремя с невыделенной пластиной (Евтюхова, Киселев, 1941, с. 95-96, 100-103). Отдельные находки предметов IX-X вв. известны и в других районах Горного Алтая.
Особую группу памятников образуют тувинские курганы-кенотафы с меридиональной ориентировкой, исследованные А.Д. Грачом в юго-западной Туве — МТ-57-ХХI, MT-58-IV, MT-58-V (Грач, 1960, с. 40-48; 1960а, с. 129-143). Такой же кенотаф был открыт нами в 1972 г. в соседнем районе Юго-Восточного Алтая — Узунтал I, кург. 2 (Савинов, 1982, с. 103— 107). Вещи из этих погребений (стремена с высокой пластиной и петельчатой дужкой, двукольчатые удила, эсовидные пса-(119/120)лии, срединные накладки луков, трёхпёрые наконечники стрел с отверстиями в лопастях, панцирные пластины, пряжки с язычком на вертлюге, серебряный кувшинчик на поддоне и др. наиболее полно отражают предметный комплекс курайской культуры на позднем этапе её развития.
В узунтальский кенотаф было положено полное снаряжение двух мужчин-воинов. В него входили два пояса с металлическими бляхами-оправами и наконечниками. На одном из поясов бляхи-оправы гладкие, прямоугольные или с округлым верхним краем катандинского типа, на другом — крупные позолоченные «портальной» формы. На внешней поверхности узунтальских блях выгравирован рисунок, состоящий из ритмически повторяющихся цветов с побегами, ряда обращённых вершинами вверх треугольников к мелкого кружкового орнамента, образующего фон композиции. В школе С (по классификации Б.И. Маршака), ответвлением которой было искусство степных районов Южной Сибири, подобные мотивы доживают по крайней мере до VIII-IX вв., а в Восточном Туркестане, возможно, существуют вплоть до монгольского времени (Маршак, 1971, с. 72-73). Возможно, что этот пояс имеет восточнотуркестанское происхождение. Наконечник пояса покрыт мелким кружковым орнаментом, украшен растительными побегами с крупными вырезными листьями, среди которых изображена бегущая пятнистая лань. На обратную сторону наконечника нанесены знаки рунической письменности, которые не поддаются дешифровке.
Отдельно от основного скопления вещей находился крупный фрагмент пластинчатого панциря, состоящий более чем из 30 длинных, наложенных друг на друга пластин. Один из погребённых в узунтальском кенотафе, судя по находке именного пояса с богато украшенными бляхами-оправами, подвесными ремешками и наконечником с изображением лани — своего рода символа воина-кочевника, мог занимать более высокое положение и принадлежать к дружинной аристократии. Очевидно, именно к нему относился и крупный фрагмент пластинчатого доспеха, тогда как в обычных погребениях (например, кенотафах Монгун-Тайги) находятся только отдельные панцирные пластины. Вполне возможно, что парный кенотаф в Узунтале был сооружён в честь двух алтайских воинов (знатного дружинника и его спутника), принимавших участие в кыргызско-уйгурских войнах, возможно, на территории Восточного Туркестана.
Датирующими вещами позднего этапа курайской культуры являются плоские наконечники стрел (Саглы-Бажи, кург. 27; MT-58-IV, Курай III, кург. 1); железные детали поясных наборов (Саглы-Бажи, кург. 22; Курай III, кург. 1); лировидные подвески, аналогичные ляоским и кыргызским (Кара-Чога, кург. 4; Аргалыкты I, кург. 11; Успенское, кург. 24); прорез-(120/121)ные подножки у стремян (Успенское, кург. 24, Курай III, кург. 2); стремена с невыделенной пластиной (Курай VI, кург. 1); отдельные украшения сросткинских форм — бляшки с «перехватом» (Аржан) н серьги с подвеской-шариком (Курай VI. кург. 1). Выделенный комплекс предметов позднего этапа курайской культуры в принципе соответствует вещам, отнесенным В.А. Могильниковым к концу VIII-X вв. (Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981, рис. 24). Косвенным указанием на время сооружения этих курганов могут служить и отдельные элементы погребального обряда, в частности сопроводительные захоронения шкуры и конечностей коня, вероятно, заимствованные у населения сросткинской культуры, а также преимущественно северная ориентировка погребённых, получившая наибольшее распространение в конце I тыс.
Памятники алтае-телеских тюрков IХ-X вв. в отличие от памятников более ранних этапов курайской культуры довольно разнообразны по обряду погребения. В них представлены захоронения с конём, со шкурой коня, с бараном, одиночные погребения, курганы-кенотафы. Такое разнообразие погребального обряда при общем наборе предметов сопроводительного инвентаря должно свидетельствовать об усложнении этнического состава населения курайской культуры, вызванного, скорее всего, участием алтае-телеских тюрков в событиях середины IX в. Каковы были конкретные формы и степень этого участия — неизвестно, однако показательно, что именно в IX-X вв. по всему Саяно-Алтайскому нагорью распространяется обычай сооружения кенотафных захоронений, несомненно, связанный с усилением значения различного рода военных действий. За пределами Саяно-Алтая памятников позднего этапа курайской культуры не обнаружено.
Важным вопросом изучения алтайских и тувинских памятников IX-X вв. является вопрос о том, какая группа древнетюркских каменных изваяний может быть отнесена к этому времени. Выше приводились данные, говорящие о том, что обычай сооружения оградок с рядами камней-балбалов и каменными изваяниями продолжал существовать на Алтае и в IX-X вв., но на основании каких признаков могут быть выделены связанные с ними изваяния — сказать трудно. Проблема усложняется еще и тем, что многие реалии древнетюркских каменных изваяний (поясные наборы, сосуды, серьги и т. д.) продолжают бытовать без существенных изменений и в позднетюркское время. Используя примененную выше методику определения хронологии изваяний по изображенным на них предметам рубящего оружия (меч-палаш), можно предполагать, что одним из критериев определения поздней группы изваяний может быть изображение сабли.
Однако сам вопрос о времени н месте появления сабли остается дискуссионным. Широко распространённая в прошлом (121/122) алтайская теория происхождения сабли, выдвинутая С.В. Киселёвым, базировалась в значительной степени на изобразительном материале древнетюркских каменных изваяний (Киселёв, 1951, с. 520-521). Следует отметить, что в погребениях Южной Сибири (кыргызских и сросткинских) сабли находятся не ранее X в., причём какой-то период времени сосуществуют здесь с предшествующей типологической формой рубящего оружия — однолезвийным палашом. В Средней Азии сабли, по-видимому, появились несколько раньше, как это следует из подробного описания их изготовления в сочинении ал-Джахиза (Мандельштам, 1956, с. 241). Вряд ли можно предполагать, что сабля была известна древним тюркам в VII-VIII вв., изображалась ими на каменных изваяниях, но по каким-то причинам не входила в состав предметов сопроводительного инвентаря. Ю.И. Трифонов объясняет это несоответствие этническими различиями между создателями каменных изваяний (собственно тюрками) и тем населением, которое, по его мнению, оставило погребения с конём — племенами теле (Трифонов, 1973, с. 371-372). Ю.С. Худяков считает, что у кыргызов сабли появились под влиянием «военного искусства Центральной и Средней Азии», в результате их походов в Восточный Туркестан (Худяков, 1980, с. 45). Таким же образом, через уйгурский компонент может быть объяснено появление сабли у кимако-кыпчакских племён. В погребениях алтае-телеских тюрков, с которыми связаны каменные изваяния, предметов рубящего оружия пока вообще не найдено, хотя несомненно в позднетюркское время оно у них существовало. Косвенным образом об этом свидетельствуют кинжалы «уйбатского» типа (табл. VI, 22), известные по находкам X в., часто изображаемые на каменных изваяниях вместе с саблей.
Видимо, сочетание двух предметов вооружения (сабли и кинжала «уйбатского» типа) до специального типологического и хронологического анализа изображённых на каменных изваяниях реалий может служить основанием для выделения поздней группы древнетюркских каменных изваяний. В качестве примера можно привести несколько тувинских изваяний с саблями и кинжалами «уйбатского» типа из серии, опубликованной А.Д. Грачом — № 1, 5, 6, 13, 19, 37 (Грач, 1961). Обращает па себя внимание, что все они образуют компактную стилистическую группу и представляют собой высокие «ростовые» фигуры, выполненные в виде круглой скульптуры, с тщательно проработанными деталями, чаще всего в головных уборах. Выше уже говорилось, что для одной из оградок, связанных с таким же изваянием мемориального комплекса Дьер-Тебе, была получена радиоуглеродная дата 945±27 лет (Кубарев, 1978, с. 93).
В IX-X вв. племена алтае-телеских тюрков, потомки в прошлом могущественных тугю и теле, входили в состав государства енисейских кыргызов. Влияние кыргызской культу-(122/123)ры на местные племена отразилось как в появлении здесь погребений по обряду трупосожжения, так и в наличии ряда предметов кыргызского происхождения в материальном комплексе курайской культуры. Одновременно на алтае-телеских тюрков распространялось влияние и соседних кимако-кыпчакских племён, чем объясняется появление здесь отдельных изделий сросткинской культуры (Уманский, 1964, табл. XII) и некоторые заимствования в погребальном обряде. Всё это, вместе взятое, привело к тому, что к концу X в. курайская культура прекращает своё существование. Яркие и своеобразные материалы тувинских и алтайских кенотафов позволяют предполагать, что процесс её завершения носил не постепенный, а дискретный характер н был вызван, скорее всего, бурными событиями истории центральноазиатских племён на рубеже I и II тыс. н.э.
Глава V. Некоторые вопросы изучения памятников древнетюркской эпохи 1. Древнетюркский предметный комплекс (с. 124-138)
Одним из важнейших компонентов культурного наследия древнетюркской эпохи является сложившийся у народов Центральной Азии и Южной Сибири во второй половине I тыс. н.э. предметный комплекс.
Все предметы сопроводительного инвентаря, найденные а древнетюркских (в широком значении термина) погребениях Южной Сибири, можно вслед за А.А. Гавриловой (Гаврилова, 1965, с. 80-98) разделить на две категории вещей: 1) предметы, относящиеся к человеку; 2) предметы, относящиеся к снаряжению верхового коня. Из предметов, связанных с человеком, в литературе специально рассматривались поясные наборы (Гаврилова, 1965, с. 89-98; Ковалевская, 1972, 1979), лук (Хазанов, 1966; Гаврилова, 1965, с. 87-88; Савинов, 1981а); топоры-тёсла (Нестеров, 1981). Предметы вооружения (лук и стрелы, палаши и сабли, наконечники копий, боевые топоры и т. д.) наиболее подробно на примере культуры енисейских кыргызов исследованы Ю.С. Худяковым (Худяков, 1980). Ниже приводятся некоторые наблюдения, касающиеся особенностей развития отдельных предметов древнетюркского комплекса, относящихся к человеку (серебряные сосуды, детали поясных наборов, лук и наконечники стрел) и снаряжению верхового коня, причём предпринимается попытка выделения не только хронологических, но и этнически показательных групп предметов сопроводительного инвентаря.
Серебряные сосуды. В Центральной Азии и Южной Сибири в древнетюркскую эпоху существовали два типа серебряных сосудов, близких по форме (прямой низкий поддон, округлое тулово, уступчик по плечикам, горло с вогнутыми сторонами), но различающихся по своим пропорциям — одни из них имели низкие (табл. IV, 24), другие более вытянутые пропорции (табл. V, 21). Вертикальные кольцеобразные ручки помещались
(124/125)
в наиболее широкой части сосуда и на сосудах второго типа прикрывались орнаментированными щитками. На многие сосуды были нанесены древнетюркские рунические надписи.
Сосуды первого типа чаще встречаются в погребениях Горного Алтая — Катанда; Туэкта, кург. 3; Юстыд (Смирнов, 1909, табл. ХСII, № 169; Евтюхова, Киселёв, 1941, табл. II, рис. 2; Кубарев, 1979, рис. 7-9) и Тувы — MT-58-IV; Калбак-Шат (Грач, 1960а, рис. 88; Маннай-оол, 1963, табл. II, рис. 12). В Минусинской котловине найден только один подобный сосуд — Уйбатский чаа-тас (Евтюхова, 1948, с. 25-26; Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981, рис. 28, № 15). Сосуды второго типа в основном характерны для Минусинской котловины, где они известны в погребениях Копёнского чаа-таса, кург. 2 (Евтюхова, Киселёв, 1940, табл. I-VI), в сериях случайных находок (Смирнов, 1909, табл. ХСII, № 170, 171) и в виде многочисленных заготовок (Смирнов, 1909, табл. XCIV, № 182-193). По одному экземпляру сосуды второго типа найдены в Туве — в разрушенном погребении в устье р. Чинге (Савинов, 1973а, табл. 1, № 25) и на Горном Алтае — Курай IV, кург. 1 (Евтюхова, Киселёв, 1941, рис. 16). Такое распространение серебряных сосудов в разных районах Южной Сибири позволяет предполагать, что сосуды первого типа более характерны для культуры алтае-телеских тюрков, а второго — для культуры енисейских кыргызов.
Типологически близкие сосуды (только без уступчиков по плечикам) происходят из известного Перещепинского клада VII в. (Маршак, Скалон, 1972, с. 12-15). В погребениях Кокэльского могильника в Туве найдено три сосуда подобной формы, сделанных из дерева (Вайнштейн, 1966а, табл. I, V, VI). Можно предполагать, что серебряные сосуды первого тина появились в Южной Сибири несколько раньше, чем второго, — на дне одного из них (Юстыд), например, нанесено изображение горного козла, характерное для периода Второго тюркского каганата (VII-VIII вв.). Датирующее значение для определения времени распространения сосудов второго типа имеют находки из Копёнского чаа-таса, кург. 2 (середина IX в.). Кроме того, изображения сосудов второго типа наиболее часто встречаются на каменных изваяниях поздней, так называемой «уйгурской» группы (VIII-IX вв.).
Начиная с IX в. оба типа сосудов сосуществовали, но могли играть различную роль. Сосуды второго типа вытянутых пропорций, с фигурными щитками па ручках, иногда украшенные роскошным накладным орнаментом, — это, скорее всего, ритуальная или парадная утварь. Возможно, поэтому в Минусинской котловине (Копёнский чаа-тас, кург. 2) и на Алтае (Курай IV, кург. 1) они были найдены в «тайниках», куда клали наиболее цепные вещи. Что касается сосудов первого типа, то не исключено их непосредственное использование в быту. По-
(125/126)
добная форма сосудов (округлое тулово, низкий отогнутый венчик и расположенная сбоку ручка), как отметил Б.И. Маршак, восходит к керамике гунно-сарматского времени степных районов (Маршак, 1961, с. 181-182), Возможно, что сосуды первого типа послужили исходной формой для сложения сосудов второго типа, вытянутые пропорции которых, изящные очертания и орнаментация должны были усилить их социальное значение.
Поясной набор. Металлические детали поясных наборов встречаются с хуннского времени. Так, в погребениях Ильмовой и Черёмуховой падей в Забайкалье были найдены длинные ременные наконечники (табл. I, 2) с горизонтальной прорезью для крепления (Коновалов, 1976, табл. XIV). Ажурные пряжки и поясные подвески украшали таштыкский пояс (Кызласов, 1960, рис. 7). Как уже отмечалось, оформление деталей таштыкского пояса, возможно, получило дальнейшее развитие в ажурном стиле украшений сросткинской культуры.
В VI-VII вв. в Южной Сибири, как и вообще в пределах Первого тюркского каганата, распространяются пояса с различными фигурными бляшками (табл. II, 2, 4), крепившимися к поясу на шпеньках с обратной стороны (Гаврилова, 1965, с. 89; Кибиров, 1957, рис. 4). Позже VII в. такие бляшки неизвестны. Ни разу их изображения не встречены и на древнетюркских каменных изваяниях.
В VII-VIII вв. появляются и продолжают бытовать без значительных изменений до конца I тыс. гладкие бляхи-оправы с прямой или фигурной прорезью для крепления ремешков катандинского типа (Гаврилова, 1965, с. 89-90). Они имели разную форму: квадратную, овальную, с округлым верхним или скошенным с одной стороны краем (табл. III. 2-4). Пояса с накладными бляхами-оправами наиболее часто изображались на древнетюркских каменных изваяниях. Самые поздние их находки относятся к IX-X вв. — могильник Красный Яр I в Новосибирском Приобье (Троицкая, 1978, рис. 7) и Узунтал I, кург. 2 на Горном Алтае (Савинов, 1982, рис. 5, № 17). Вместе с ними часто встречаются сердцевидные бляшки и бляшки-лунницы, которые в VII-VIII вв. делались с ровными (табл. III, 5), а позже с вырезными краями (табл. IV, 5). Оформление поясных наборов IX-X вв., по сравнению с катандинскими, характеризуется преобладанием расчленённых форм, широким использованием сердцевидных, крыловидных мотивов, более раз витой системой растительной орнаментации.
Особую группу украшений образуют бляхи-оправы «портальной» формы. В памятниках VII-VIII вв., судя по Кокэльскому могильнику (табл. III, 7), они еще не имели чётко выраженных очертаний, и сама прорезь на них имела скорее декоративное, значение (Вайнштейн, 1966а, табл. V, 6-8, VI, 12). В окончательно сложившимся виде они широко распространяются начи-
(126/127)
ная с VIII-IX вв. (табл. IV, 7, 8; V, 6), причём поздние экземпляры имеют, как правило, более крупные размеры.
Важной составной частью всех древнетюркских поясов являлись подвесные ремешки с наконечниками и различного рода подвесками. Для поясов катандинского типа, а также курайских и кыргызских в VIII-IX вв. были характерны короткие щитовидные наконечники с ровными (табл. III, 6), а затем вырезными краями (табл. IV, 1, 2, 10; V, 3-5). В памятниках сросткинской культуры IX-X вв. чаще всего применялись длинные ременные наконечники (табл. VII, 9-10), появление которых в Южной Сибири А.А. Гаврилова связывает с влиянием культуры уйгуров (Гаврилова, 1965, с. 72). В свою очередь, уйгурские наконечники, вероятно, восходят к наконечникам из хуннских могил Забайкалья и могут рассматриваться как ещё один хуннский компонент в культуре средневековых уйгуров.
Особый интерес представляет типология лировидных подвесок, известных как по случайным находкам и материалам погребений, так и по изображениям на изваяниях поздней «уйгурской» группы. Их прототипом, очевидно, являются костяные подвески с двумя круглыми отверстиями (табл. II, 11-13), известные в погребениях VI-VII вв. (Гаврилова, 1965, табл. VIII, 7; XXIII, 3; Кадырбаев, 1959, рис. 20, № 3; Трифонов, 1971, рис. 5). В VII-VIII вв. они приобретают лировидную форму (табл. III, 18): выделяется ножка, центральное отверстие и головка с прорезью для подвешивания (Грач, 1960а, рис. 65; Вайнштейн, 1966а, табл. II, 7; V, 2-4). Подобные костяные подвески сохранялись в Семиречье вплоть до IX в. (Максимова, 1968, рис. 1). Начиная с VIII-IX вв. большинство лировидных подвесок стали делать из бронзы. Среди них отчетливо выделяются два основных типа: 1) с сердцевидной прорезью и округлой ножкой (табл. V, 11; VI, 10; IV, 2); 2) с круглой прорезью и длинной ножкой (табл. IV, 3; VII, 18). В том и другом случаях окончание ножки часто оформлялось в виде трилистника. Подвески первого типа известны в сериях случайных находок из Минусинской котловины (Клеменц, 1886, табл. VIII, 38; Левашова, 1939, табл. XVI, 8). Обломок такой подвески найден в погребении с трупосожжением у горы Тепсей (Грязнов, Худяков, 1979, рис. 89, № 15). За пределами Минусинской котловины они встречены в памятниках IX-Х вв. в Туве (Шанчиг, Успенское, Кара-Чога, кург. 4, Аргалыкты I), на Горном Алтае (Курай IV, кург. 1), в Восточном Казахстане (Зевакино), а также на Тянь-Шане (Чуйская долина, Иссык-Куль, Ак-Бешим). Подвески второго типа были распространены меньше и найдены только на Алтае (Курай IV, кург. 1; Туэкта) и в Восточном Казахстане (Орловский могильник). Все аналоги лировидным подвескам в средневековых памятниках Восточной Европы также имели круглые или овальные прорези. Очевидно, подвески первого типа были характерны для культу-
(127/128)
ры енисейских кыргызов по всей территории её распространения, а второго — для алтае-телеских тюрков н населения более западных районов. Нахождение на курайском поясе подвесок с различной формой прорези — круглой и сердцевидной (табл. IV, 2, 3) — позволяет считать оба типа одновременными в пределах VIII-X вв. В IX-X вв. некоторые подвески стали делать из железа (Грач, 1968а, с. 106, рис. 50, № 6). Позднее X в. лировидные подвески не встречаются.
Таким образом, в конце I тыс. н.э. в рамках культур енисейских кыргызов, алтае-телеских тюрков (курайской) и кимако-кыпчакских племен (сросткинской) складываются близкие по формам металлических украшений, но все же самостоятельные типы поясных наборов. На курайских поясах чаще всего встречаются бляхи-оправы катандинских форм и лировидные подвески с круглой прорезью. Для кыргызских характерен в принципе такой же набор украшений, но с более развитой системой орнаментации, а также лировидные подвески с сердцевидной прорезью. Для сросткинских поясных наборов бляхи-оправы были характерны в меньшей степени. Широкое распространение здесь получают длинные ременные наконечники, подпрямоугольные накладные бляхи с петлёй, бляшки с острым носиком, фигурные бляшки с «перехватом» и др. Бляхи-оправы портальной формы здесь вообще не известны. В то же время только на сросткинском поясе, как в Восточном Казахстане, так и на Северном Алтае, применялись своеобразные подвески в виде рыб, имевшие, как и лировидные подвески, определённое социальное значение (Шавкунов, 1973).
Лук и стрелы. Как уже говорилось, в основе развития древнетюркских луков лежит лук хуннского типа, имевший обычно семь накладок: две пары концевых и три срединные, из которых две широкие помещались по бокам кибити (деревянной основы лука), а третья узкая, со слегка расширяющимися концами — посередине между ними с внутренней стороны. Плечевые части лука, кроме того, дополнительно укреплялись узкими костяными пластинками (Хазанов, 1966, с. 40). Подобные луки с длинными концевыми накладками, с вырезами для тетивы, но без плечевых пластин продолжали существовать па Горном Алтае в первой половине I тыс. Остатки их найдены в могильнике Балыктыюль (Сорокин, 1977, рис. 10) и в погребениях с конём берельского типа. В материалах могильника Кудыргэ они представлены как в оградках, так и в погребениях с конём середины I тыс. Степень изогнутости концевых накладок и способ их крепления, по наблюдениям А.А. Гавриловой, свидетельствуют о разных культурных традициях в изготовлении берельских и кудыргинских луков (Гаврилова, 1965, с. 18, 59). Лук своеобразной конструкции с крупными срединными и фронтальными концевыми накладками, с желобками для крепления тетивы был найден в погребении V-VI вв. на могиль-
(128/129)
нике Узунтал I (Савинов, 1981а, с. 152-154, рис. 3). Принципиально иное устройство, судя по деревянным моделям, имели таштыкские луки без костяных накладок, на которых тетива крепилась за выступ в торцевой части кибити (Кызласов, 1960, рис. 46). В целом для первой половины I тыс., при сохранении прежней хуннской традиции, была характерна значительная вариабельность в конструкции южносибирских луков, очевидно, являвшаяся отражением происходивших здесь в это время сложных этногенетических процессов.
В памятниках VI-VII вв. чаще всего встречаются луки с двумя срединными и двумя концевыми накладками (Усть-Тесь, Аламышик, Аргалыкты VIII и др.), изготовленные в прежней берельской традиции. Сильно изогнутые концевые накладки из погребения этого времени в Алма-Ате (Курманкулов, 1980, рис. 2) имеют много общего с кудыргинскими (табл. II, 5). Отдельные луки с длинными концевыми накладками доживают до IX в. (Уйбат II). Однако, как установила А.А. Гаврилова (Гаврилова, 1965, с. 87), начиная с VII-VIII вв. в конструкции южносибирского лука происходят существенные изменения — исчезают концевые накладки и наибольшее распространение получают луки, имевшие только две боковые срединные накладки несколько меньших размеров, чем хуннские или берельские. Они были найдены в погребениях в Монголии, в Туве, на Горном Алтае, в Восточном Казахстане, в Минусинской котловине и на Тянь-Шане, т.е. в основном в пределах Тюркскиx каганатов, что позволяет назвать луки этого типа тюркскими (табл. III, 17). В VIII-X вв. луками этого типа пользовалось преимущественно население курайской культуры — алтае-телеские тюрки (табл. IV, 17). Видимо, от них подобную. конструкцию лука заимствовали енисейские кыргызы (табл. V, 12), хотя судить об особенностях кыргызского лука из-за господствовавшего в кыргызской среде обряда трупосожжения трудно.
Практически одновременно в Южной Сибири использовался лук другого типа — уйгурского, представленный находками из катакомбных погребений VIII-IX вв. в Туве. От каждого из этих луков сохранились пять накладок: две длинные концевые с вырезами для тетивы и три срединные — две широкие и одна узкая со слегка расширяющимися концами. Л.Р. Кызласов отметил древнюю хуннскую традицию в изготовлении уйгурских луков и их отличие от луков тюркского типа (Кызласов 1969, с. 75-76).
Конструктивные особенности тюркского и уйгурского луков отразились в материалах сросткинской культуры из Восточного Казахстана н Северного Алтая. Так, в кург. 38 Зевакинского могильника на Иртыше найдены срединные и концевые накладки, а в кург. 1 Орловского могильника — только срединные (Арсланова, 1969, с. 45-47). Из кургана 6 Бобровского мо-
(129/130)
гильника происходят два сложных лука: один имел две срединные и две концевые накладки; другой, сохранившийся целиком, — две срединные накладки с прямоугольным вкладышем посередине. «Обыкновенно третья накладка, — отмечает Ф.X. Арсланова, — равна или близка срединным. В данном случае особая форма третьей накладки объясняется, возможно, своеобразным устройством лука прииртышских кимаков» (Арсланова, 1968, с. 104). Найдены в Восточном Казахстане и срединные фронтальные накладки с расширяющимися концами — Трофимовка, кург. 1 (Агеева, Максимова, 1959, табл. 1, рис.80). Те же особенности (сосуществование луков только со срединными, срединными и концевыми накладками, наличие фронтальных срединных накладок с расширяющимися концами и прямоугольных вкладышей) характерны для луков, представленных в погребениях североалтайского и кемеровского вариантов сросткинской культуры (Худяков, 1981, с. 121-123). С наибольший основанием они могут быть названы кимакскими. Как уже говорилось, в сложении этносоциального объединения кимаков большую роль сыграли как тюркские (телеские) племена, так и группы населения, вошедшие в него после разгрома Уйгурского каганата енисейскими кыргызами, чем, очевидно, и объясняется сочетание в кимакском луке особенностей тюркского и уйгурского типов.
Наиболее распространённой формой наконечников стрел в хуннское время и в первой половине I тыс. были трёхпёрые ярусные наконечники, часто употреблявшиеся с костяными насадками-свистунками (табл. I, 8). В памятниках второй половины I тыс. такие стрелы неизвестны, но традиция применения костяных свистунок сохранялась вплоть до уровня этнографической современности. Ведущей формой наконечников стрел на всём протяжении древнетюркской эпохи являлись трёхпёрые черешковые наконечники с различной конфигурацией лопастей (табл. II, 6-9; III, 12-14; IV, 19), типология которых до настоящего времени полностью не разработана. Специально кыргызской формой можно считать крупные трёхпёрые наконечники с пирамидальной верхней частью и серповидными, реже круглыми отверстиями в лопастях (табл. VI, 16-18). Типологически близкие им уйгурские и сросткинские наконечники прорезей не имеют (табл. VII, 29). Здесь часто встречаются ланцетовидные уплощённые наконечники, а в сросткинских могилах, кроме того, наконечники на длинном веретенообразном стержне. Предположение о существовании в Южной Сибири до IX в. плоских наконечников стрел, основанное на единичной находке типологически позднего наконечника в кург. 5 могильника Джесос, не может считаться убедительным (Савинов, 1973а, с. 345, пр. 37). Первые плоские ромбические наконечники (табл. VII, 30) появляются начиная с IX в. и могут рассматриваться в качестве датирующего признака при определении памятников
(130/131)
позднетюркского времени. Вместе с ними широко распространяются различного рода бронебойные наконечники (трёх-четырёхгранные пирамидальные, долотцевидные и др.).
Из предметов снаряжения верхового коня в литературе специально рассматривались стремена и сёдла (Гаврилова, 1965, с. 85-87; Вайнштейн, 1966, с. 63-74; Амброз, 1973; Кызласов И., 1973; Савинов, 1977; Кызласов, 1979, с. 135-138); в меньшей степени удила и псалии (Гаврилова, 1965, с. 80-84). Имеющийся в настоящее время материал позволяет остановиться на особенностях развития сёдел, стремян, удил и псалий, деталей уздечных наборов и некоторых видов пряжек в древнетюркскую эпоху.
Сёдла. Главной деталью конского снаряжения является седло. В I тыс. в Южной Сибири параллельно развивались три типа седла с жёсткой основой, различающиеся в основном по форме передних лук: 1) с низкими округлыми, 2) подтреугольными н 3) широкими арочными луками.
Самые ранние роговые обкладки низкой округлой луки седла были встречены в Шибинском кургане — табл. X, 10 (Грязнов, 1928, рис. 1; Баркова, 1979, рис. 4). Деревянная лука седла этого типа, состоящая из двух частей, найдена в одном из Ноин-Улинских курганов — табл. X, 8 (Руденко, 1962, табл. XXIV, № 3). В погребениях катандинского этапа (VII-VIII вв.) парные костяные орнаментированные обкладки встречены дважды: Катанда II, кург. 5, 1954 г. — табл. X, 3 (Гаврилова, 1965, рис. 8) и Узунтал V, кург. 1 — табл. X, 5 (Савинов, 1982, рис. 10). С.В. Киселёв отмечал, что передняя лука седла в одном из туэктинских курганов (VIII-IX вв) «была украшена костяными пластинками, напоминающими кудыргинские, но оформленными в виде головки животного» (Киселёв, 1951, с. 532). Седло этого типа изображено на известных бронзовых фигурках всадников из Копёнского чаа-таса (Евтюхова, Киселёв, 1940, табл. VII, VIII; рис. 54). Костяная обкладка низкой луки седла с выступом посередине была найдена в одном из погребений сросткинской культуры на р. Змеевке IX-X вв. — табл. X, 1 (Киселёв, 1951, с. 532, пр. 1; Неверов, 1982, с. 105). Очевидно, сёдла с низкими округлыми луками на протяжении всего I тыс. не претерпели существенных изменений. Что из себя представляли полки, соответствующие этому типу седла, неизвестно.
Другой тип древнетюркских сёдел отличается широкими арочными луками и полками с двумя вырезами по краям с округлой лопастью посередине. Луки на богатых сёдлах украшались роговыми кантами и обкладками с лицевой стороны. Самое раннее изображение такого седла имеется на одной из тепсейских пластин таштыкского времени — табл. X, 11 (Грязнов, 1979, рис. 61). Берестяная обкладка арочной луки седла найдена в Уйбатском чаа-тасе — табл. X, 9 (Киселёв, 1951,
(131/132)
табл. XXXVI, 1). Эти находки подтверждают существование данного типа седла у населения таштыкской культуры в III-V вв. К седлу с широкими арочными луками относились и знаменитые кудыргинские обкладки с гравированной сценой охоты — табл. X, 6 (Гаврилова, 1965, табл. XVI). В памятниках второй половины I тыс. остатков седел, подобных кудыргинскому, пока не обнаружено, однако форма широких арочных лук зафиксирована и для монгольского времени (Савинов, 1977, рис. 2,3).
В VII-VIII вв. появляется третий тип древнетюркских сёдел — с подтреугольными луками. Конструктивно они не отличаются от сёдел с широкими арочными луками и, видимо, связаны с ними генетически. Несколько таких сёдел было найдено С.И. Вайнштейном в Кокэльском могильнике — табл. X, 2 (Вайнштейн, 1966а, табл. X, XI). Типологически близко кокэльским седло из могильника Кара-Булун на Тянь-Шане (Кибиров, 1957, рис. 3). Особое место занимает находка железных, окованных медью пластин из Улуг-Хову, кург. 54 в Туве (VIII-IX вв.), которые Л.Р. Кызласов реконструирует как накладки высокой треугольной луки седла (Кызласов, 1979, с. 132-133, рис.93). Такая форма луки необычна для древнетюркских сёдел, однако их находки в памятниках XII-XIII вв. (Савинов, 1977а, рис. 1, 4) позволяют согласиться с предложенной реконструкцией. Что касается культурной и этнической принадлежности южносибирских сёдел, то из-за малочисленности находок и быстроту распространения сходных конструктивных решений в скотоводческой среде они пока не поддаются определению.
Стремена. Необходимой частью каждого седла являлись стремена. Обычно считается, что сёдла с жёсткой основой и металлические стремена появились одновременно и рассматриваются как одно из наиболее важных изобретений древнетюркской эпохи. Однако, если седло с широкими арочными луками было уже известно населению таштыкской культуры, то стремян этого времени не найдено. Нет их и на изображениях всадников на тепсейских пластинах. Модели стремян, относимые Л.Р. Кызласовым к уйбатскому этапу таштыкской культуры (Кызласов, 1960, рис. 51, № 9, 10), происходят из случайных находок, и культурная принадлежность их остается неопределённой (Вайнштейн, 1966, с. 64-65). Вероятно, в первой половине I тыс. стремена продолжали делаться в виде петли из кожи, конского волоса и других органических материалов (Вайнштейн, 1966, с. 63-64). Все это, вместо взятое, свидетельствует о том, что сёдла с жесткой основой появились в Южной Сибири раньше, чем металлические стремена.
Первые находки металлических стремян в Южной Сибири происходят из впускного захоронения раннетюркского времени в кургане Улуг-Хорум в юго-западной Туве. Они имеют спрямлённую подножку, высокую невыделенную пластину с отвер-
(132/133)
стиями дли путлища в средней части и сплошь покрыты треугольными вдавлениями (табл. II, 15). По своей форме и характеру орнаментации, передающей крепление металлического листка на деревянной основе, эти стремена наиболее близки дальневосточным (корейским и японским) из комплексов IV — начала VI вв. (Грач В., 1982, с. 159-163). Можно предполагать, что именно отсутствие местных форм металлических стремян в Южной Сибири до середины VI в. вызвало необходимость использования заимствованных образцов.
В материалах Кудыргинского могильника уже представлены два основных вида южносибирских стремян — с петельчатой и пластинчатой дужками, которые продолжают существовать на протяжении всего I тыс. и включают большое количество вариантов, типология которых до настоящего времени не разработана (табл. II, 10, 14). Для памятников кудыргинского типа (VI-VII вв.) характерны преимущественно простые стремена с петельчатой дужкой. В VIII-IX вв. в памятниках енисейских кыргызов и алтае-телеских тюрков наибольшее распространение получают стремена с выделенной пластиной с закраинами н прорезью для путлища в нижней части дужки (табл. III, 15, 16; IV, 22; V, 13, 16, 17). С.В. Киселёв считал их типологически более поздними, чем стремена с петельчатой дужкой и отмечал, что они «отличаются своеобразной изогнутостью нижней части боковых дуг при переходе в подножие» (Киселёв, 1951а, с. 49). В IX-X вв., судя по находке уйбатского стремени (Евтюхова, 1948а), подобные стремена стали делаться с высокой пластиной (табл. VI, 20), и в этом смысле высота пластины, очевидно, может служить хронологическим признаком.
Специально кыргызской формой можно считать стремена с петельчатой, слегка приплюснутой дужкой и плавно изогнутым подножием, которые впервые встречаются в памятниках копёнского этапа (табл. V, 13), а затем в большинстве кыргызских погребений Минусинской котловины, Тувы, Горного Алтая н Восточного Казахстана в период «кыргызского великодержавия». Отличительной особенностью многих стремян этого типа в IX-X вв. являются прорезные подножки; форма прорезей разная: круглые отверстия, крыловидные, «8»-образные, прямоугольные и т. д. (табл. VI, 14, 16 [15, — П.А.]). На стременах с пластинчатой дужкой в это время прорезные подножки встречаются очень редко.
Для сросткинской культуры характерны два вида стремян, формально совпадающие с ведущими южносибирскими типами, но имеющие от них и некоторые отличия. Стремена с петельчатой дужкой здесь гораздо массивнее, чем кыргызские. Стремена другого типа имеют низкую невыделенную пластину без закраин, очертания которой часто сливаются с абрисом самого стремени (табл. VII, 20, 27). В дальнейшем на основе стремян этого типа сложилась форма стремян с отверстием для путли-
(133/134)
ща в самой дужке, распространенная в начале II тыс. повсеместно.
Удила и псалии. Железные однокольчатые удила появились ещё на шибинском этапе культуры ранних кочевников Горного Алтая, были известны хуннам и существовали на протяжении I тыс. вплоть до VIII-IX вв. (табл. I, 1, 5; II, 1, 3; III, 10). Одна из наиболее поздних находок удил этого типа была сделана на могильнике Узунтал VI, кург. 1, где звенья удил имели различные окончания: одно однокольчатое, другое — «8»-образное (Савинов, 1982, рис. 12). Начиная с VIII в. наибольшее распространение получают удила с «8»-образным окончанием звеньев, кольца которых были расположены в одной или перпендикулярных плоскостях. Первый вариант преимущественно встречается в памятниках сросткинской культуры (табл. VII, 14), второй — у енисейских кыргызов (табл. V, 1, 8). В памятниках курайской культуры оба варианта представлены приблизительно в равной пропорции. Начиная с VIII-IX вв. стержни некоторых удил стали делаться витыми, а в IX-X вв. многие из этих удил с дополнительными кольцами, по-видимому, употреблялись без псалий (табл. VII, 14; VI, 6). В это же время в погребениях сросткинской культуры на Алтае, и в Восточном Казахстане появляются удила с большими внешними кольцами (трензелями), зажатыми в окончаниях звеньев (табл. VII, 13), в начале II тыс. постепенно вытеснившие все остальные типы удил и псалий.
В тесной взаимосвязи с удилами развивались псалии. А.А. Гаврилова рассматривает эволюцию удил со стержневыми и кольчатыми псалиями как параллельные процессы на протяжении всей второй половины I тыс., обусловленные одинаковыми изменениями в конструкции древнетюркской узды (Гаврилова, 1965, с. 80-84). Однако удила с кольчатыми псалиями (за исключением поздних по виду и сомнительных по происхождению удил с серебряными обоймами из Берели) встречены только в трёх случаях: в Минусинской котловине — Капчалы II, кург. 11 (Левашова, 1952, рис. 5, № 44); в Туве -Кызыл-Булун, кург. 139 (Кызласов, 1969, табл. III, № 165) и на Горном Алтае — Курай VI, кург. 1 (Евтюхова, Киселёв, 1941, рис. 24). Они датируются VIII-IX вв. и, возможно, типологически предшествуют сросткинским удилам с большими внешними кольцами. Подавляющее же количество южносибирских удил имело стержневые псалии, в оформлении которых прослеживаются глубокие культурные традиции.
Эсовидные деревянные псалии с зооморфными окончаниями в виде головок тигров, грифонов и т.д. наиболее ярко представлены в материалах пазырыкской культуры Горного Алтая. В памятниках хуннского времени появляются прямые костяные и роговые псалии с двумя отверстиями, расположенными в одной плоскости (табл. I, 12). Такие же псалии (прямые, изо-
(134/135)
гнутые или с одним отогнутым концом) продолжали использоваться с однокольчатыми удилами в раннетюркское время и в тюркское, вплоть до катандинского этапа (табл. II, 1, 3). Наиболее поздними из них можно считать роговые псалии из могильника Кокэль, кург. 23 (Вайнштейн, 1966а, табл. VI, 3) в Туве и из Катанды II, кург. 5, 1954 г. на Горном Алтае (Гаврилова, 1965, рис. 8 № 10). Катандинские роговые псалии с железными скобами (табл. III, 10), очевидно, предшествуют металлическим псалиям с плоской петлёй. Роговые и костяные псалии, но уже в ином оформлении встречаются и позже, например, роговой псалий с головкой коня и рунической надписью из древнетюркского захоронения около кургана Аржан (Комарова, 1973, с. 208; Кляшторный, 1975, рис. 1).
Начиная с VII-VIII вв. широко распространяются железные эсовидные псалии с плоской петлёй и различными вариантами окончания стержней — прямыми, листовидными, в виде «сапожка» или головок животных (горных козлов и баранов), употреблявшиеся с удилами с «8»-образными окончаниями звеньев (табл. III, 1; IV, 1, 11; V, 1, 8). В IX-X вв. на некоторых псалиях стали делать фигурные скобы. Судя по находкам в Уйбатском чаа-тасе, зооморфные окончания псалий и фигурные скобы были характерны для культуры енисейских кыргызов (табл. VI, 13). В это же время население сросткинской культуры широко использовало эсовидные или изогнутые костяные и роговые псалии, орнаментированные косой насечкой, один конец которых был оформлен в виде «сапожка» или «рыбьего хвоста» (табл. VII, 7, 8). Псалии этого типа, по-видимому, генетически не связаны с костяными и роговыми псалиями первой половины I тыс., а представляют собой типологический вариант общераспространенной формы эсовидных псалий. В культуре енисейских кыргызов и алтае-телеских тюрков они неизвестны.
Уздечные наборы. В памятниках разных археологических культур в Южной Сибири встречаются различные виды уздечных наборов. Для курайской культуры были наиболее характерны четырёхлепестковые бляшки, овальные бляшки с фестончатым краем и короткие наконечники (табл. IV, 12, 23); для сросткинской культуры — «у»-видные бляшки, различного рода бляшки-розетки (табл. VII, 17) и длинные наконечники с растительным орнаментом. Уздечный набор культуры енисейских кыргызов на копёнском этапе был близок курайскому. Позже получили распространение крупные подпрямоугольные накладки и длинные наконечники с богатой растительной орнаментацией, мотивами пламевидного орнамента и др. (табл. VI, 3, 4). Важными деталями всех уздечных наборов являлись подвесные сердцевидные бляхи-решмы и тройники.
Сердцевидные бляхи-решмы, украшавшие нагрудный и подфейный ремни, появились в культуре населения Южной Сибири
(135/136)
сравнительно поздно — в VIII-IX вв. Наиболее ранние из них — плоские н гладкие, с ровным пли вырезным краем — были найдены в Монголии (Джаргаланты, кург. 2) и в Минусинской котловине (табл. V, 9, 10). (Капчалы I, кург. 1). Такая же бляха из Копёнского чаа-таса, кург. 6 имеет посредине округлую выпуклость н украшена изображениями двух львов (табл. V, 7), (Евтюхова, Киселёв, 1940, рис. 44). Аналогичная бляха с изображением львов найдена в Туве в погребении с трупосожжением IX-X вв. (Калбак-Шат). Начиная с IX в. основным объектом внимания при изготовлении сердцевидных подвесок становится их центральная часть. Она делается выпуклой и оформляется в виде колокольчика (табл. VI, 6) (преимущественно в культуре енисейских кыргызов) или антропоморфной усатой личины (кыргызские н сросткинские подвески). Посвятивший им специальное исследование А. Сальмони отметил сходство личин на этих бляхах с иконографией древнетюркских каменных изваяний (Сальмони, 1934). Кыргызские бляхи-решмы с антропоморфной личиной, найденные пока только в Минусинской котловине, несколько отличаются от сросткинских, Они крупнее, с ровными краями и петелькой для подвешивания; растительный орнамент занимает всю площадь вокруг усатой личины (табл. VI, 7), (Клеменц, 1886, табл. XI, 2; Левашова, 1939, табл. XVI, 25). Сросткинские бляхи (алтайский н кемеровский варианты) имеют вырезной край, без петельки для подвешивания (видимо, они крепились каким-то иным способом); поле вокруг личины гладкое, орнамент в виде трилистника располагается только по краю (табл. VII. 22). В Восточном Казахстане найдены своеобразные сердцевидные бляхи без растительного орнамента с личиной-колокольчиком. Кроме того, в памятниках сросткинской культуры по всей территории её распространения встречаются мелкие сердцевидные подвески с растительным орнаментом, выполненные в ажурном стиле (табл. VII, 5). На Горном Алтае несколько сердцевидных блях, возможно, сросткинского происхождения известны среди случайных находок. В погребениях курайской культуры они пока не обнаружены.
На местах перекрестий ремней помещались накладки-тройники. В Южной Сибири в древнетюркскую эпоху существовали три вида тройников: круглые, с вырезными лопастями и «Т»-видные. Круглые тройники с прорезями, украшенные жемчужным орнаментом, появились ещё в таштыкской культуре (табл. I, 6) (Кызласов, 1960, рис. 43, № 3; Грязнов, 1979, рис. 67, № 21). В дальнейшем они встречаются в культуре енисейских кыргызов и сросткинских погребениях Восточного Казахстана IX-X вв. (табл. VI, 12; VII, 23). С VIII-IX вв. в курайской культуре (табл. IV, 15) н культуре енисейских кыргызов (табл. V, 19; VI. 11) распространяются тройники с вырезными лопастями, чаще всего не орнаментированные. Начиная
(136/137)
с IX в. одновременно с ними существовали и «Т»-видные тройники, украшенные растительным орнаментом в двух основных вариантах: кыргызском и сросткинском. Кыргызские тройники имели округлые очертания лопастей и полусферическую выпуклость посредине. Сросткинские — преимущественно прямоугольных очертаний, плоские (табл. VII, 24). В таком виде они доживают вплоть до монгольского времени.
Пряжки. Труднее всего поддаются хронологическому и культурному определению пряжки. Все основные типы железных пряжек с подвижным язычком — круглые, квадратные, прямоугольные, с вогнутыми сторонами рамки существовали уже в хуннское время и продолжали использоваться на протяжении всего I тыс. н.э. Наибольший интерес представляют пряжки своеобразной конструкции, получившие в литературе название «пряжек с язычком на вертлюге». Как и первые стремена с высокой невыделенной пластиной, они, очевидно, имеют дальневосточное происхождение — типологически близкие пряжки, только более вытянутых пропорций, известны в Японии в V-VI в.. (Сорокин, 1977, рис. 8). В VIII-IX вв. на Алтае, в Туве и Минусинской котловине встречаются пряжки небольших размеров с прямой вертлюгой и подпрямоугольной рамкой (табл. V, 20). В IX-X вв., очевидно, на их основе складываются два основных типа таких пряжек: 1) массивные, с прямой вертлюгой и подквадратной рамкой — табл. IV, 20 (курайские); 2) более лёгкие, с вогнутой вертлюгой, иногда с трапециевидной рамкой — табл. VI, 21 (кыргызские). В памятниках сросткинской культуры пряжки с язычком на вертлюге неизвестны.
Одновременно с железными пряжками использовались и костяные пряжки, также имеющие много вариантов, до настоящего времени невыделенных. Сама форма костяных пряжек с округлой верхней частью появилась ещё в пазырыкское время. Дальнейшее её развитие представляют хуннские костяные пряжки с выступающим приёмником — табл. I, 11. (Коновалов, 1970, табл. VIII. 16). Судя по находкам в памятниках берельского типа, в V-VI вв. они уже делались с подвижным язычком (Гаврилова, 1965, рис. 5, № 11; Савинов, 1982, рис. 3, № 1) и в таком виде сохранялись на протяжении всего раннетюркского и тюркского времени. Начиная с IX в. распространяются костяные и бронзовые пряжки с острым носиком (табл. VII, 26), часто с железным язычком, являющиеся важным хронологическим признаком памятников позднетюркского времени и одной из отличительных особенностей сросткинской культуры.
Таким образом, в истории развития древнетюркского предметного комплекса можно выделить три основных закономерности: 1) на протяжении всего I тыс. сохранялись некоторые формы предметов, появившиеся ещё в период сложения прототюркского этнокультурного субстрата; 2) начиная с VIII-IX вв. складываются определённые предметные серии в рамках выде-
(137/138)
ленных археологических культур — енисейских кыргызов, курайской и сросткинской; 3) наибольшее сходство в VIII-IX вв. прослеживается между материалами курайской культуры и культуры енисейских кыргызов; в IX-X вв. — культуры енисейских кыргызов и сросткинской. Это в значительной степени объясняется этнокультурными связями разных районов Южной Сибири в пределах одной историко-этнографической области.
Глава V. Некоторые вопросы изучения памятников древнетюркской эпохи 2. Этнокультурные связи (с. 138-141)
В древнетюркскую эпоху многие районы Южной Сибири, Центральной и Средней Азии были связаны между собой рядом караванных маршрутов, представляющих северные ответвления Великого шелкового пути. Из Средней Азии в страну кимаков на Иртыше вело несколько дорог: от Тараза через Бетпак-Далу, из низовьев Сыр-Дарьи по Сары-Су и на восток через Семиречье к Алтайским горам (Ахинжанов, 1968; Кумеков, 1972, с. 50-53). Очевидно, как продолжение последнего пути на восток из страны кимаков шла дорога к енисейским кыргызам, упоминаемая Гардизи (Бартольд, 1973, с. 47). Поскольку сведения Гардизи относятся к началу XI в., когда ставка енисейских кыргызов находилась на севере Минусинской котловины, можно предполагать, что путь от енисейских кыргызов к кимакам проходил по северным районам Южной Сибири, скорее всего через степной Алтай. Существовал также путь из страны кимаков на юг к тогуз-огузам (уйгурам), в местность Öк-Таг (по В. В. Бартольду, Монгольский Алтай). По данным Гардизи, «путь к кыргызам ведет из страны тогуз-огузов» через Манбек-Лу (Танну-Ола) и Когмён (Западные Саяны). Возможно, этому пути соответствует описание двух дорог, проходящих на север от «Гагарьего ключа», по сведениям Таншу (Бичурин, 1950, с. 353). Если это так, то западное его ответвление можно сопоставить с упоминавшейся выше дорогой из страны кимаков к тогуз-огузам. В Западных Саянах существовало несколько проходов (Усинская, Хемчикская, Арбатская тропы н др.), соединявших Минусинскую котловину с территорией современной Тувы. Еще одна дорога из страны енисейских кыргызов вела на восток, в Прибайкалье, к «большому племени фури (курыканам. — Д.С.)» (Бартольд, 1973, с. 47-48). Караванные пути, соединявшие разные районы Южной Сибири -от Средней Азии до Байкала и от Северной Монголии до лесостепного Алтая — играли не только роль торговых коммуникаций, но и обеспечивали этнокультурные связи тюркоязычных народов Южной Сибири.
В период сложения прототюркского субстрата и в раннетюркское время этнокультурные связи носили в основном односторонний характер. Главным источником различного рода инноваций служили, очевидно, северные районы Центральной Азии, откуда на территорию Южной Сибири проникали отдельные (138/139) элементы погребального обряда (обычай трупосожжения, устройство поминальных сооружений, соблюдение определенного интервала между смертью и захоронением) и древнетюркского предметного комплекса.
В период Первого тюркского каганата широкая экспансия тюрков-тугю привела к распространению их культуры на обширных пространствах Центральной и Средней Азии, Южной Сибири и Казахстана. Памятники VI-VII вв. известны на Алтае, в Туве и в Минусинской котловине, но их малочисленность не позволяет проследить конкретные формы осуществления этнокультурных контактов между населением этих районов Южной Сибири. Судя по погребениям с конем, появляющимся в VI-VII вв., на территории Минусинской котловины (Усть-Тесь, Кривинское), определенные связи существовали между енисейскими кыргызами и алтае-телескими тюрками.
В период Второго тюркского каганата, когда основные военные действия тюрков-тугю были направлены против местных племен Монголии и Южной Сибири, наиболее тесные связи устанавливаются между населением Тувы и Горного Алтая (памятники катандинского типа), в результате чего складывается курайская археологическая культура. Здесь повсеместно распространяются погребения с конем, определенный набор предметов сопроводительного инвентаря, древнетюркские каменные изваяния и схематические изображения горных козлов типа Чуруктуг-Кырлан. В то же время происходит некоторое обособление Минусинской котловины, населенной врагами орхоно-алтайских тюрков-тугю — енисейскими кыргызами. Показательно, что на территории Минусинской котловины в многочисленных сериях петроглифов встречено всего несколько схематических изображений козлов тюркского облика, единичные оградки и два каменных изваяния VII-VIII вв. (Евтюхова, 1952, рис. 43, 44). Однако благодаря походам тюрков-тугю за Саяны (подобным походу 711 г.), а также созданию на Среднем Енисее тюркских гарнизонов и участию кыргызской знати в похоронах тюркских каганов этнокультурные связи между населением этих районов Саяно-Алтая не прерывались и в VII-VIII вв.
На протяжении всего существования Древнетюркских каганатов традиционно сохранялось меридиональное направление этнокультурных связей при господствующем значении центральноазиатского юга по отношению к более северным районам Южной Сибири.
Иная ситуация сложилась в период господства в Центральной Азии Уйгурского каганата. Во время уйгуро-кыргызских войн какие-либо связи между Центральной Тувой, включенной в состав уйгурского государства, и Минусинской котловиной прекратились. Население Центральной Тувы подверглось определенному влиянию со стороны уйгурской культуры. Племена (139/140) Западной Тувы, Горного Алтая и прилегающих районов Северной Монголии в результате длительных процессов этнической консолидации сформировались в новую общность алтае-телеских тюрков, видимо, независимых от Уйгурского каганата.
Наиболее интенсивные этнокультурные связи в этот период прослеживаются между енисейскими кыргызами (копёнский этан культуры енисейских кыргызов) н алтае-телескими тюрками (туэктинский этап курайской культуры). Они выразились в общих деталях погребального обряда (трупосожжение с «тайниками») в копёнских н курайских курганах (Гаврилова, 1965, с. 65-66) и отмеченном выше сходстве ряда предметов сопроводительного инвентаря. Данные параллели, свидетельствующие об определенных этнокультурных контактах между населением Алтая и Минусинской котловины в период господства в Центральной Азии уйгуров, соответствуют сведениям письменных источников об антиуйгурской коалиции племен Саяно-Алтайского нагорья, в частности о союзе енисейских кыргызов и алтайских карлуков. О западной ориентации культурных связей енисейских кыргызов в VIII-IX вв. говорит н единственное известное в Минусинской котловине каменное изваяние этого времени (с. Знаменка), на которое нанесена руническая надпись от имени знатного тюргеша (Малов, 1952, с. 67; Евтюхова, 1952, с. 94, Худяков, 1979, с. 204).
После падения Уйгурского каганата, выхода енисейских кыргызов на историческую арену Центральной Азии и сложения кимако-кыпчакского объединения с центром на Иртыше, начинают абсолютно преобладать этнокультурные связи широтного направления. Определяющими среди них были отношения между енисейскими кыргызами и кимаками, мало исследованные в литературе. Уже многим исследователям бросалось в глаза сходство основных форм предметов сопроводительного инвентаря из погребений сросткинской культуры и культуры енисейских кыргызов. Первым это отметил С. В. Киселев, который писал: «Уздечные и поясные наборы Тюхтятского клада совершенно аналогичны украшениям, обнаруженным в погребениях IX-X вв. сросткинских курганов Северного Алтая. Очевидно, в IX-X вв. по всему Саяно-Алтайскому нагорью распространяется мода на вещи тюхтятско-сросткинских типов» (Киселев, 1951, с. 56). К. И. Петров также пишет, что «инвентарь погребений в известном кургане (? — Д.С.) близ с. Сростки на р. Катуни, будучи связан с древними местными алтайскими традициями, резко отличающимися от приенисейских, вместе с тем имеет ряд характерных черт более развитой материальной культуры енисейских кыргызов» (Петров, 1963, с. 50). Орнамент сросткинских и кыргызских украшений IX-X вв. привлекал внимание исследователей н как пример художественного творчества кочевников (Федоров-Давыдов, 1976, с. 62, 69, 81). (140/141)
Проведенный выше анализ предметных серии сопроводительного инвентаря показал, что, несмотря на особенности оформления отдельных вещей, материальные комплексы культуры енисейских кыргызов и сросткинской существенно не отличаются друг от друга. Варьируются в основном элементы декоративного убранства при одинаковом или близком конструктивном решении. Поэтому имеются основания говорить о двух вариантах культуры IX-X вв. в Южной Сибири — кыргызском и сросткинском, развивающихся параллельно и в несомненном взаимодействии друг с другом. Видимо, их взаимодействие может рассматриваться как свидетельство не только культурных, но н этнических связей между двумя наиболее сильными государствами позднетюркского времени — енисейских кыргызов и кимако-кыпчакским. Показательно, что на Западном Алтае (Корболнха) н в Восточном Казахстане (Зевакинский могильник) кыргызские и кимакские погребения находятся на одном могильном поле.
Об этнокультурных связях между енисейскими кыргызами и кимаками свидетельствуют и письменные источники. Известно, что в конце X в. после отпадения кыпчаков кимако-кыпчакское объединение распалось па несколько самостоятельных областей: Андар аз кыфчак, Йагсун-йасу, Кыркырхан (Кумеков, 1972, с. 66). Андар аз кыфчак представлял собой «область кимаков, где жители напоминают гузов некоторыми своими обычаями», а Кыркырхан была «еще одна область, принадлежавшая кимакам и жители ее напоминают по своим обычаям хырхызов» (Материалы по истории киргизов и Киргизии, 1973, с. 44). По мнению Б. Е. Кумекова, Кыркырхан — это район, который находился гораздо ближе к каким-то группам кыргызов, чем к другим тюркским племенам (Кумеков, 1972, с. 66) К. И. Петров помещает эту область на границе с владениями енисейских кыргызов, в верховьях Оби, а местное население называет приобскими, или «периферийными, кыргызами» (Петров, 1963, с. 50, 64). По Рашид ад-дину, урасуты, теленгуты (доланьгэ) и куштеми «обитают по лесам в пределах страны киргизов и кем-кемджиутов», а затем оказываются «по ту сторону киргизов на расстоянии одного месяца пути» (Рашид ад-дин, 1952, с. 123). О племени кеснм (те же куштеми) и другом источнике говорится, что «это один из хырхызских родов, их речь ближе халусской (карлукской.— Д.С.), а по одежде они напоминают кимаков» (Материалы по истории киргизов н Киргизии, 1973, с. 42). Сообщения о том, что жители кимакской области Кыркырхан по своим обычаям близки енисейским кыргызам, а подчиненные енисейским кыргызам куштеми по одежде напоминают кимаков, можно рассматривать как свидетельство определенных ассимилятивных процессов, происходивших в Южной Сибири на рубеже I н II тыс. н. э. (141/142)
Глава V. Некоторые вопросы изучения памятников древнетюркской эпохи
3. Процессы тюркизации (с. 142-145)
Районы, сопредельные Южной Сибири и населённые племенами иной языковой и культурной принадлежности, постоянно испытывали влияние со стороны центральноазиатских государственных образований. Проникновение отдельных тюркоязычных групп населения, их языка и особенностей культуры в пределы соседних историко-этнографических областей получило название процессов тюркизации.
Начало процессов тюркизации (при условии тюркоязычности хуннов) предположительно может быть отнесено к рубежу н.э., когда население Южной Сибири принимало участие в сложении прототюркского этнокультурного субстрата. По мнению М.X. Маннай-оола, процессы тюркизации в Туве начались ещё раньше — в середине I тыс. до н.э. н затем были усилены в результате включения территории Тувы в состав хуннского объединения и древнетюркских государственных образований (Маннай-оол, 1980). Тюркизация Южной Сибири, населённой, скорее всего, самодийскими, кетоязычными и ираноязычными племенами, шла наиболее интенсивно после переселения тюрков Ашина на Алтай, создания раннетюркских владений и образования Первого тюркского каганата. В дальнейшем само население Южной Сибири играло большую роль в распространении древнетюркской культуры сначала в периферийных районах Саяно-Алтая, а затем и за его пределами. Наиболее широкий размах процессы тюркизации соседних с Южной Сибирью историко-этнографических областей приняли во второй половине I тыс. Главным образом они коснулись районов Западной Сибири, в меньшей степени районов юга Восточной Сибири (Прибайкалье и бассейн Амура).
Говоря о процессах тюркизации, как правило, не освещённых письменными источниками, необходимо иметь в виду, что они осуществлялись определёнными носителями древнетюркского историко-культурного комплекса — тугю, теле, алтае-телескими тюрками, енисейскими кыргызами, уйгурами, кимаками и т.д. Только при таком подходе можно выявить конкретные древнетюркские этнокультурные компоненты в этнической истории народов Сибири.
Западная Сибирь. По мнению В.А. Могильникова, наиболее подробно исследовавшего процессы тюркизации южных районов Западной Сибири (Могильников, 1973, 1976, 1980), они имели последовательный характер. Сначала, в VI-VII вв., в результате тюркской экспансии заканчивает своё существование верхнеобская культура на Северном Алтае, где складывается смешанное тюрко-самодийское население. Отсюда процессы тюркизации распространяются на Новосибирское и Томское Приобье, но приобретают в это время в основном характер товарообменных отношений. Здесь продолжает жить местное са-(142/143)модийское (или yrpo-самодийское) население, что не исключает возможности эпизодического проникновения с юга отдельных тюркоязычных групп населения. Их следы, по мнению В.А. Могильникова, отразились в материалах рёлкинской культуры на Средней Оби. Наиболее интенсивно тюркизация этих районов проходила в IX-X вв. в связи со сложением сросткинской культуры, влияние которой, особенно на позднем этапе развития (по В.А. Могильникову, басандайская культура, X— XII вв.) привело к сложению смешанного тюрко-самодийского субстрата. В целом данная схема может быть принята, но отдельные её положения требуют уточнения.
Наиболее интенсивно древнетюркский пласт проявляется в культуре населения южных районов Западной Сибири в VIII-IX вв., что, скорее всего, было связано с образованием Уйгурского каганата, за чем последовали перегруппировка алтае-телеских тюрков и оттеснение их части за пределы Южной Сибири. В это время в Новосибирском Приобье появляется целый ряд памятников алтайского облика. По мнению Т.Н. Троицкой,, «памятники VIII-IX вв. свидетельствуют не только о тюркизации местной культуры, но и о проникновении самих тюрков с их обычаем погребать покойника с взнузданным конём» (Троицкая, 1973, с. 183). К этому же времени относятся первые бесспорные свидетельства проникновения тюрков на территорию Томского Приобья, отражённые в материалах Тимирязевского могильника и курганов у д. Могильники (Плетнёва Л., 1972, 1973).
В Барабинской степи наиболее значительная серия курганов этого времени была исследована В.И. Молодиным на могильнике Преображенка-3 (Молодин, Савинов, Елагин, 1981). В формировании Преображенского комплекса принимали участие разные компоненты — местные и привнесённые. К первым могут быть отнесены некоторые особенности погребального обряда, развитая керамическая традиция, отдельные предметы сопроводительного инвентаря, в частности многочисленные костяные наконечники стрел. Во всём остальном (захоронения с чучелами коня, поясные наборы и приёмы их орнаментации, серьги, пряжки и т. п.) отчётливо видны южные истоки.
Показательна находка в одном из Преображенских курганов (№ 12) своеобразной пряжки, сделанной из поперечного спила основания оленьего рога (Молодин, Савинов, Елагин, 1.981, рис. 2, № 9). Этот предмет, найденный далеко на севере, имеет только две аналогии — Наинтэ-сумэ в Монголии (Боровка, 1927, табл. IV, 33) и Чааты II в Туве (Кызласов, 1979, рис. 135, № 6), в том и в другом случае — в погребениях VIII-IX вв. Можно предполагать, что носителями южного компонента в Преображенском комплексе были какие-то группы тюркоязычного населения, продвинувшиеся в середине VIII в. в район Центральной Барабы (скорее всего, с территории Алтая) и ассимилировавшие местные племена. Можно думать, что процес-(143/144) сы тюркизации в Новосибирском Приобье к этому времени уже в основном завершились, что подготовило вхождение местного населения в состав кимако-кыпчакского объединения (новосибирский вариант сросткинской культуры).
В конце I тыс. погребения по обряду трупосожжения с близкими кыргызским формами предметов сопроводительного инвентаря, в первую очередь поясных наборов, появляются в Новосибирском Приобье (Умна-3, Каменный мыс, Красный Яр I), в связи с чем Т.Н. Троицкая отмечала «влияние культуры кыргызов, а возможно, и проникновение их самих на берега Оби» (Троицкая, 1973, с. 184). В Томском Приобье отдельные погребения по обряду трупосожжения, поясные наборы кыргызского облика и кинжал «уйбатского типа» известны в могильнике Архиерейская заимка (Кузнецов, 1899). Какой характер носило проникновение кыргызов на территорию Среднего Приобья — неизвестно. Это могли быль этнокультурные связи между енисейскими кыргызами н кимаками (в широком значении термина) или военные походы после возвращения кыргызов на Средний Енисей.
Как бы то ни было, период «кыргызского великодержавия», основные события которого разворачивались в далёких просторах Центральной Азии, сыграл определённую роль в дальнейших процессах тюркизации южных районов Западной Сибири.
Восточная Сибирь. Проблема проникновения тюркоязычного населения на восток представляется наиболее сложной и наименее разработанной. Впервые вопрос о связях Восточной Сибири с более западными районами на материалах наскальных изображений и отдельных находок вещей среднеазиатского происхождения был поставлен А. П. Окладниковым (Окладников, 1951, 1963). Дальнейшие исследования памятников культуры мохэ, бохай, чжурчженей., а также хойцегорской культуры Западного Прибайкалья и борхотуйской культуры Восточного Забайкалья (предположительно шивэй) дали огромный археологический материал, в котором выделяется целый ряд предметов тюркского происхождения.
Еще в 1902 г. Ю.Д. Талько-Грынцевичем были опубликованы материалы известного Хойцегорского могильника, в одном из погребений которого в углу ямы в обрывках шелковой ткани («тайник»?) находился поясной набор, включающий лировидные подвески с сердцевидной прорезью и антропоморфными изображениями, пряжка н другие украшения с растительным орнаментом (Талько-Грынцевич, 1902, рис. 60-61). Позднее Л.Р. Кызласовым была выделена хойцегорская культура, имеющая много общего с уйгурской н кыргызской (Кызласов, 1981а), в материалах которой представлены бляхи-оправы с растительным орнаментом, эсовидные псалии с «сапожком», овальная бляшка с фестончатым краем, стремена с пластинчатой дужкой и некоторые другие предметы южносибирского про-(144/145)исхождения (Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981, рис. 35). На территории Восточного Забайкалья (борхотуйская культура) найдены удила с «8»-образным окончанием звеньев, «Т»-видные тройники, многие детали поясных наборов, в том числе бляхи «портальной» формы и железные лировидные подвески с сердцевидной прорезью (Ковычев, 1982, рис. 1, 2).
В более восточных районах значительная серия тюркских вещей найдена в Приамурье и Приморье. Из погребений с трупосожжениями Троицкого могильника и других памятников Среднего Амура происходят палаш с напускным перекрестием, трёхпёрые наконечники стрел с серповидной прорезью, круглые распределители ремней, поясные бляхи-оправы, эсовидные псалии с «сапожком», «Т»-видные тройники, витые удила и т.д. (Деревянко, 1977, 1975), которые Е.И. Деревянко справедливо сопоставляет с древнетюркским предметным комплексом в Южной Сибири (Деревянко, 1974). В культуре амурских чжурчженей (Надеждинский и Корсаковский могильники) также найдены многочисленные детали поясных наборов, бляхи с петлей, сердцевидные бляхи-решмы, пряжки со щитком, лировидные подвески с сердцевидной и круглой прорезью и др. (Медведев, 1977, 1982). Отдельные вещи тюркского облика, в частности типично южносибирская бляха «портальной» формы, известны н в бохайских памятниках Приморья (Андреева, 1970, рис. 35).
Приведенные материалы позволяют поставить вопрос о времени проникновения древнетюркской культуры на восток и о её конкретных носителях. Среди предметов тюркского происхождения, найденных в южных районах Восточной Сибири, встречаются вещи катандинского типа (VII-VIII вв.), главным образом детали поясных наборов. Однако, как отмечалось выше, в Южной Сибири они доживают до конца I тыс. н.э. В восточных районах Сибири они, как правило, происходят из одних и тех же погребений, в которых найдены вещи VIII-IX и IX-X вв. (лировидные подвески, «Т»-видные тройники, бляхи «портальной» формы и др.) и должны также датироваться этим временем. Очевидно, процессы тюркизации южных районов Восточной Сибири могли начаться не ранее VIII-IX вв., т. е. уже после гибели Древнетюркских каганатов, и проходили наиболее интенсивно в IX-X вв. Обращает на себя внимание, что по основным формам вещей мохэские материалы ближе всего к кыргызским (возможно, появление их связано с распространенным также у мохэ обрядом трупосожжения), а чжурчженьские — сросткинским, точнее уйгурскому компоненту сросткинской культуры. Синхронизируя эти наблюдения со сведениями письменных источников, можно предполагать, что одной из причин, вызвавших процессы тюркизации в этом районе Азии послужили события, связанные с гибелью Уйгурского каганата, уходом части уйгуров к племенам шивэй и преследованием их енисейскими кыргызами в середине IX в. (145/146)
Заключение (с. 146-148)
Итак, на рубеже I и II тыс. н. э. древнетюркская эпоха закончилась. Распались древние и яркие археологические культуры раннего средневековья — енисейских кыргызов, кимако-кыпчакских племен и алтае-телеских тюрков. Их одновременное завершение, очевидно, было обусловлено одними и теми же причинами — распространением по периферии будущего монгольского государства более сильных монголоязычных племен, сложением новых форм хозяйства и более развитых социально-экономических отношений (Плетнева С., 1982). Тюркоязычное население Южной Сибири в предмонгольское время (XI-XII вв.) частично оставалось на своих местах, частично мигрировало в пределы соседних историко-этнографических областей.
Существенную, до настоящего времени полностью не оцененную роль в формировании культуры народов Саяно-Алтайского нагорья, Средней Азии и якутов на Средней Лене сыграли уйгуры (Потапов, 1978, 1981). Алтае-телеские тюрки, видимо, продолжали обитать на территории Горного Алтая и Тувы и впоследствии вошли в состав алтайской и тувинской народностей. До конца XIX в. южные алтайцы и западные тувинцы хоронили своих покойников в сопровождении коня.
Сложный путь в своем дальнейшем развитии прошла культура енисейских кыргызов. Уже в поздний период пребывания кыргызов на территории Тувы (X-XI вв.) их культура претерпела существенные изменения под влиянием культуры других народов Центральной Азии и Южной Сибири. В таком переоформленном виде (по Л. Р. Кызласову, аскизская культура) она распространилась в XI-XII вв. на территории Минусин-(146/147)ской котловины. Несколько позже (XII-XIII вв.) памятники этой культуры встречаются около Красноярска (Часовенная гора). На западе границы ее распространения доходят до р. Ишим (Пахомовский могильник). В дальнейшем роль енисейских кыргызов в сложении хакасской народности (Бутанаев, 1979) была определяющей. Кыргызский компонент на этнографическом материале может быть выделен также у тянь-шаньских киргизов, южных тувинцев и якутов. Показательно, что у большинства этих народов до середины XIX в. был известен древний, вероятно, в основе своей кыргызский обряд трупосожжения.
Еще более сложный и значительный путь прошло в своем развитии население сросткинской культуры после отделения от них кыпчаков. Этническая история кыпчаков в Азии и Восточной Европе — тема большого самостоятельного исследования, поэтому коснемся здесь только группы кыпчаков, оставшихся на местах своего первоначального расселения. Кыпчакский компонент является одним из основных в составе южных алтайцев. Часть кыпчакского населения продвинулась на территорию Томской области и завершила процессы тюркизации местного населения. Наиболее значительным памятником этого времени на территории Западной Сибири является могильник Басандайка около г. Томска (Басандайка, 1947). При определении этнической принадлежности населения, оставившего ранние грунтовые могилы Басандайки, обращают на себя внимание знакомые черты погребального обряда: несколько могил под одной курганной насыпью, сопроводительное захоронение шкуры коня, сочетание трупоположения н трупосожжения в одном комплексе и т.д. Найденные здесь вещи (ажурные украшения, двусоставные застежки, изображения противостоящих птиц, сердцевидные подвески) объединяют их со сросткинской культурой. Близость керамики из Бобровского могильника с более поздними памятниками на территории Томской области (Басандайка, Мурлинское городище, Томский могильник и др.) убедительно показана Ф.X. Арслановой (Арсланова, 1980). По набору предметов сопроводительного инвентаря близок Басандайке могильник Еловка I, исследованный В. И. Матющенко (Матющенко, Старцева, 1970). Очевидно, он должен датироваться более ранним временем, так как сросткинский комплекс здесь выражен настолько отчетливо, что не приходится сомневаться в его происхождении. Сложный обряд погребения (срубы с берестяными покрытиями и сопроводительным захоронением коней по сторонам срубов) показывает этническое своеобразие населения, оставившего этот могильник, родственного, но не идентичного населению Басандайки. Сросткинский компонент продолжает жить и на территории Новосибирской области, о чем свидетельствуют ажурные подвески из могильника Кыштовка I (Молодин, Мыльникова, 1980, табл. III). В дальнейшем (147/148) эти группы населения, очевидно, приняли участие в формировании томских и барабинских татар, а также, возможно, и некоторых групп южных хантов. Имеются основания говорить и о кыпчакском компоненте в составе якутского этноса, но конкретные пути его проникновения на Среднюю Лену пока неясны.
Таким образом, древнетюркская эпоха явилась основополагающим этапом этнической истории всех тюркоязычных народов нашей страны.
Выяснение характера связей современных тюркоязычных народов с населением древнетюркской эпохи (главным образом по памятникам II тыс.) — одна из наиболее актуальных задач будущих этногенетических и историко-культурных исследований.
|
Д.Г. Савинов. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху / оглавление книги
|
Приложение Этапы развития южносибирских культур во второй половине I тыс.н.э. и их синхронизация.1. Курайская культура (алтае-телеские тюрки)
2. Сросткинская культура (кимако-кыпчакское объединение)
(173/174) 3. Культура енисейских кыргызов
4. Синхронизация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||